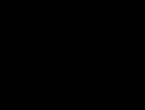Сергей Эфрон: биография и библиография. Сергей эфрон Сергей в мужьях у марины цветаевой
Семья Дурново-Эфрон вошла в жизнь 18-летней Марины Цветаевой в 1911 году в Коктебеле, где в доме Максимилиана Волошина и его матери Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной произошла встреча юной Марины со своим будущим мужем Сергеем Эфроном и его сестрами – Верой и Елизаветой. Судьбы сестер Эфрон (в особенности, Елизаветы (Лили)) будут тесно связаны с судьбой Марины и до ее отъезда из России в 1922 году, и после возвращения Цветаевой из эмиграции. Характер отношений с Эфронами будет в разные периоды разным, но какие бы трудности эти отношения не претерпевали, родственные связи не обрывались.
Сегодня каждому погруженному в жизнь и поэзию Марины Цветаевой хорошо известен московский адрес Елизаветы Яковлевны Эфрон - Мерзляковский переулок, 16, где в разное время находили приют Марина Ивановна с сыном Георгием, вернувшаяся чуть раньше остальных членов семьи в СССР, а затем, спустя много лет, из ссылки в Туруханске дочь Марины и Сергея – Ариадна Эфрон, где долгие годы хранился архив Марины Цветаевой, привезенный Муром из Елабуги, - ее литературное и эпистолярное наследие.
Старшему брату Сергея Эфрона – Петру Эфрону – Цветаева посвящает отдельный стихотворный цикл и тяжело переживает его смерть от туберкулеза в 1914 году.
Однако была еще одна судьба в семье Эфронов, которая тесно переплелась с судьбой Марины Ивановны и на протяжении всей ее жизни незримо присутствовала в ней.
В марте 1914 года Цветаева писала из Феодосии В.В. Розанову: «…моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской – великолепным гвардейцем Николая I. В Сереже соединены – блестяще соединены – две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом – весь в мать. А мать его была красавицей и героиней. Мать его урожденная Дурново…».
Когда Марина Цветаева встретила Сергея Эфрона, его матери – «красавицы и героини» Елизаветы Петровны Дурново (Эфрон) – уже не было в живых. Однако тот рок, о котором много позже, в 1943 году, так пронзительно напишет Мур в письме к Самуилу Гуревичу («Неумолимая машина рока добралась и до меня…») уже начинал, а возможно, продолжал свое неотвратимое действо, и, восхищаясь матерью своего молодого мужа, Марина еще не знала, что в чем-то, при всей несхожести их взглядов, убеждений, поступков, жизненных задач, в ее судьбе зеркально отразятся трагические обстоятельства жизни Елизаветы Петровны и ее супруга – отца Сергея – Якова Константиновича Эфрона.
Судьба Елизаветы Петровны Дурново (Эфрон) была действительно легендарна и трагична. Аристократка, натура, по воспоминаниям современников, «тонкая, чистая, глубокая», красивая, умная, обаятельная, в юности восхищавшая Ивана Бунина, Максимилиана Волошина, Петра Кропоткина и многих других своих знаменитых современников Лиза Дурново была одной из первых курсисток знаменитых Московских высших курсов В.И. Герье, обладала необыкновенной тягой к учению и уникальными художественными способностями. Вместе с тем с юных лет экспансивная, экзальтированная и обладавшая безграничной готовностью к самопожертвованию Елизавета Дурново уже в молодости активная участница революционного движения России, впоследствии член «Оппозиционной фракции партии социалистов-революционеров», отколовшейся от партии эсеров. Единственная и любимая дочь у своих родителей сама она, выйдя замуж, стала матерью девятерых детей, не прекращая при этом активной революционной деятельности и побывав узницей Петропавловской крепости в 1880 году и Бутырок в 1906.
Без сомнения, Сергей Эфрон рассказывал Марине о матери, о ее трагической смерти, о своем детстве. Анастасия Ивановна Цветаева в своих знаменитых «Воспоминаниях» описывает, как в Коктебеле во время ее знакомства с Сергеем он, по просьбе Марины, рассказал историю своей семьи и ей. После рассказа, пишет Анастасия Цветаева, «на Сережу было нельзя смотреть. Мы не смотрели. Марина, как он, - была живая рана. И страстная тоска по ушедшей – поклонение, трепет, присяга верности его жизни снедали ее». 12 июля 1911 года Сергей пишет сестрам из Москвы в Коктебель: «…Был в Гагаринском переулке – показывал Марине наш дом. Внутрь нас не впустили. <...> Сегодня едем на Ваганьковское кладб<ище>. Там похоронена тоже мать Марины». А 22 марта 1912 года уже из Парижа, где Эфрон и Марина Цветаева побывали во время свадебного путешествия, снова сестрам в Москву: «Милые, вчера и третьего дня был на могиле. Я ее всю убрал гиацинтами, иммортелями, маргаритками. Посадил три многолетних растения: быковский вереск, куст белых цветов и кажется лавровый куст. <...> На днях посылаю вам несколько серебр<яных> листочков с могилы».
Пройдут годы, и именно Марина Ивановна Цветаева поставит надгробную плиту на этой фамильной могиле на Монпарнасском кладбище в Париже, где были похоронены Елизавета Петровна с мужем и их младший сын Константин. «Это были чудные люди (все трое!) и этого скромного памятника (с 1910 г.) заслужили», напишет Цветаева в одном из писем того периода.
Чем могла привлекать и восхищать Марину Цветаеву личность Е.П. Дурново (Эфрон) – женщины, посвятившей всю свою жизнь революционной деятельности, от которой сама Марина уже в период знакомства с Сергеем Эфроном, как мы знаем, была далека? Думается, в первую очередь, ореолом героизма и романтизма вначале, уважением к верности избранного пути впоследствии.
Мифы и легенды буквально окутывали биографию Елизаветы Петровны, переходя от поколения к поколению рода Эфронов.
В 2012 году издательством «Прометей» была выпущена монография Елены Жупиковой «Е.П. Дурново (Эфрон). История и мифы». Пожалуй, впервые биография Елизаветы Дурново рассматривалась здесь не только в свете оставленных о ней воспоминаний (в первую очередь, воспоминаний ее дочерей – Анны и Елизаветы), но и с опорой на архивные документы (метрики, протоколы допросов, донесения, обвинительные акты и т.п.). Последнее позволило автору монографии внести точность и ясность в целый ряд укоренившихся в литературе о Елизавете Дурново (Эфрон) и Якове Эфроне ошибок. Прояснившиеся обстоятельства дали возможность более подробно рассмотреть и сопоставить их с обстоятельствами жизни Марины Цветаевой и Сергея Эфрона и провести «переклички-параллели» в судьбах двух поколений семьи.
Остановимся более подробно на нескольких таких «перекличках».
«Дело Рейсса» - «Дело Рейнштейна»
Всем известно знаменитое «Дело Рейсса», которое сыграло роль рокового поворота в судьбах Цветаевой и Эфрона и на долгие годы повлекло за собой обвинения Сергея Яковлевича в политическом убийстве Игнатия (Игнаса) Рейсса – резидента НКВД, отказавшегося возвращаться в Москву и убитого 4 сентября 1937 года в Швейцарии в окрестностях Лозанны. Сегодня непричастность Сергея Эфрона к этому убийству практически доказана историками и литературоведами, исследовавшими архивы НКВД. Названы имена его реальных исполнителей и членов «вспомогательной» группы преследования Рейсса. Имени Сергея Эфрона среди них нет. Принимал ли Сергей Яковлевич хотя бы косвенное участие в этой кровавой расправе? Процитируем в этой связи слова Ирмы Кудровой, которая, проведя большую исследовательскую работу, убеждена – нет. «На сегодняшний день достаточно известно, что реальное руководство «акцией» осуществлялось не мелкими эмигрантскими «шестерками», а лицами высокого ранга. Главной фигурой был С.М. Шпигельглас. <...> По указаниям Шпигельгласа были приняты главные решения, а также сформирована группа преследования исчезнувшего резидента. Помог ли в этом формировании Сергей Эфрон? Только в том смысле, что в составе «вспомогательной» группы были люди, в разное время им завербованные <...> Вот это реальный факт».
А теперь вернемся на много лет назад – в год 1879. 5 марта 1879 года в Москве в бывшей гостинице Мамонтова было совершено политическое убийство. Убитый – Николай Рейнштейн (деятель «Северного союза русских рабочих» и одновременно агент III отделения) – был обнаружен с приколотой на спине запиской: «Николай Васильев Рейнштейн, изменник и шпион, осужден и казнен нами, русскими социалистами-революционерами. Смерть Иудам – предателям». В списке арестованных по «Делу Рейнштейна» мы можем увидеть фамилию «Эфрон». Это 28-летний Яков Константинович Эфрон – отец Сергея. Ариадна Сергеевна Эфрон в своих воспоминаниях писала: «…Якову Константиновичу, вместе с двумя его товарищами, было доверено привести в исполнение приговор Революционного комитета «Земли и Воли» над проникшим в московскую организацию агентом охранки, провокатором Рейнштейном. Он был казнен <...>. Обнаружить виновных полиции не удалось» .
Говоря об участи своего деда в громком политическом убийстве, Ариадна Сергеевна озвучивает один из мифов, передававшихся из поколения в поколение семьи Эфронов. Как уже было сказано выше, Яков Константинович действительно был арестован в числе других подозреваемых в марте 1879 г., однако его причастность к «Делу Рейнштейна» после продолжительного следствия не была доказана. 14 июня 1879 г. Эфрон освобождается из-под стражи (в строгом одиночном заключении он провел 3 месяца), а еще через месяц, 13 июля, за полным отсутствием улик он освобождается и «от всякой ответственности».
В дальнейшем Яков Эфрон отошел от политических дел.
Судьба как будто пощадила старшего Эфрона, чтобы спустя много лет с новой силой обрушиться на его сына – Сергея и в итоге погубить его. Поистине роковой «перекличкой» в судьбах двух Эфронов видятся два этих политических убийства, которых они не совершали.
Лейтмотив добровольного ухода из жизни в судьбах
Е.П. Дурново (Эфрон) и Марины Цветаевой.
Еще одна параллель-«перекличка» в судьбах двух поколений семьи Эфонов-Цветаевых (в частности, Е.П. Дурново (Эфрон) и М.И. Цветаевой) – лейтмотив добровольного ухода из жизни и трагический конец их обеих.
Повторяющиеся на протяжении всей жизни, начиная с юности, суицидальные настроения Марины Цветаевой, сочетающиеся в ее мировоззрении и натуре с необыкновенной силой духа, способностью к самообновлению и самовоскрешению после тяжелейших ударов судьбы, с пониманием силы и ценности своего поэтического дара, широко описаны в цветаеведческой литературе. Поэтому более подробно остановимся на названном трагическом лейтмотиве в судьбе Е.П. Дурново (Эфрон).
Как уже отмечалось, Лиза Дурново, по воспоминаниям современников, с юности была натурой тонкой, идеалистически настроенной, крайне эмоциональной. Известен случай, когда в юности она потеряла сознание и впала в трехдневный летаргический сон. Причиной послужил гнев отца, Петра Аполлоновича Дурново, побросавшего в камин тетради Лизы с лекциями и запретившего ей посещать Лубянские курсы 2-ой мужской гимназии. (Через небольшой срок П.А. Дурново всё же дает согласие на обучение Лизы, и та поступает на только что открывшиеся в Москве курсы Герье).
Во время пребывания семьи Дурново в Швейцарии в Женеве юная Лиза попадает под влияние Петра Кропоткина и становится членом I Интернационала.
Имя Кропоткина через много лет еще свяжет невидимой нитью Марину Цветаеву и Елизавету Петровну Дурново (Эфрон), когда Цветаева в отчаянии будет писать Лаврентию Берии с мольбой о пересмотре дела Сергея Эфрона: «Сергей Яковлевич Эфрон, - писала Марина Ивановна, - сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново <...> О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин…».
Увлечение революционными идеями определило судьбу Е. Дурново – от своих революционных взглядов она не отступилась до конца жизни. Одна из ее соратниц по революционной деятельности (Е.Н. Игнатова) описывает молодую Елизавету Дурново так: «”Лиличка” <...> беззаветно отдалась с присущим ей пылом и экспансивностью делу вызова революции среди крестьян. Сперва она склонялась к террористической деятельности. <...> Но вступив в кружок, она отказалась от террора и занялась деятельностью (распространением нелегальной литературы и др.), в которую вносила чрезвычайную экспансивность и экзальтированность: ей всё мерещилось скорое наступление общего взрыва… Всем увлекавшаяся, всех идеализировавшая, проявлявшая безграничную готовность к самопожертвованию, “Лиличка” была общей любимицей».
Первый же арест и заключение в одиночную камеру Петропавловской крепости в 1880 году повергли молодую Елизавету в невротическое состояние. По сведениям, сохранившимся в архивных документах, которые приводит Е. Жупикова в уже упоминаемой ранее монографии, из управления коменданта крепости в Департамент полиции сообщали, что Елизавета Дурново «стала проявлять ненормальное состояние умственных способностей», у нее начались слуховые галлюцинации, истерические припадки, возникло стойкое желание лишить себя жизни. В документах зафиксировано, что из-за опасения суицида арестантки комендант отдает распоряжение о постоянном внутреннем наблюдении за ней. 13 ноября 1880 года Елизавету передают на попечительство отца с залогом в 10 тысяч рублей. Осмотревший ее через несколько дней после освобождения московский врач, титулярный советник Сергей Корсаков выдал удостоверение, заверенное в полиции (оно сохранилось в ГАРФе), в котором говорится, что Елизавета Дурново страдает нервным расстройством и имеет расположение к заболеваниям нервной системы. В таком состоянии, спасаясь от преследования властей, Елизавета совершает свое первое бегство за границу.
Второе, из которого она уже никогда не вернется в Россию, произойдет через много лет. А до этого она выйдет замуж за Якова Эфрона, станет матерью 9-ых детей, но не отступится от своих взглядов и посвятит политической борьбе всю свою жизнь.
Лейтмотив добровольного ухода из жизни зазвучит у Елизаветы Петровны Дурново с новой силой после второго ареста в 1906 году и последующей за ним вынужденной эмиграцией. Страх, отчаяние, тоска, желание покончить с собой – так она будет описывать своё состояние в письмах к самым близким людям сначала из Швейцарии, затем из Парижа. «Знаешь, - Вера, - как я раскаиваюсь, что эмигрировала! Я теряю силы со дня на день<...> покончила бы с собой, да и конец, теперь бы уже и думать забыла <...> Сама себе противна!». «…Нет возможности быть свободной, так есть возможность спокойно умереть. Дни мои сочтены, разумеется, об этом не должны знать мои семейные… Мрачно, пасмурно, холодно…, ночь повисла надо городом. Часы идут, идут дни, и скоро-скоро надо будет покончить с собой».
Как похоже это состояние Елизаветы Дурново на состояние Марины Ивановны Цветаевой, описываемое теми, кто видел ее до эвакуации в Елабугу и общался с ней в Чистополе! Марину Цветаеву в отчаяние приводили аресты мужа и дочери, отсутствия жилья в родной Москве, грянувшая война, страх за сына, неприятие того, во что всё больше и больше погружался мир вокруг неё. Для Елизаветы Петровны Дурново (Эфон) тяжелейшим ударом стали вынужденная эмиграция, невозможность возвращения на Родину, смерть близких.
В 1909 году умирает Яков Константинович Эфрон, и желание покончить с собой всё чаще и чаще звучит в ее письмах последнего года жизни.
В феврале 1910 года повесился 14-летний Константин – самый младший сын Эфронов, живший с матерью в эмиграции. Это был последний удар.
На обстоятельства ухода самой Елизавету Петровны, последовавшего за этим роковым событием, нет единой точки зрения: хроника парижских газет и воспоминания современников разнятся в деталях обстоятельств этой трагедии. Точно известно лишь, что Елизавета Петровна Дурново (Эфрон) повесилась вслед за сыном. Хоронили их в один день на Монпарнасском кладбище Парижа .
Спустя много лет незадолго до своего возвращения из эмиграции в СССР Марина Ивановна Цветаева поставит на семейной могиле Эфронов памятник. Пройдет еще несколько лет, и на вопрос Анастасии Ивановны Цветаевой, как погибла Марина, дочь Елизаветы Петровны Дурново (Эфрон), тоже Елизавета, даст ответную телеграмму: «Как наша мама».
Примечания:
1. Цветаева М.И. Письма 1905-1923 / Сост., подгот. текста Л.А. Мнухина. М.: Эллис Лак, 2012. С. 174.
2. Эфрон Г.С. Письма. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, Королев: Музей М.И. Цветаевой в Болшеве, 2002. С. 106.
3. Жупикова Е.Ф. Е.П. Дурново (Эфрон). История и мифы: Монография. М.: Прометей, 2012. С. 123.
4. Цветаева А.И. Воспоминания. М.: Изограф; Дом-музей М.И. Цветаевой, 1995. С. 411.
5. Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах / Сост., подгот. текста, коммент. Е.Б. Коркиной. М.: 6. Эллис лак, 2012. С. 101.
6. Там же. С. 125.
7. Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М.: Эллис лак, 1995. С. 91.
8. Кудрова И.В. Путь комет: В 3-ех т. Т.2: После России. СПб.: Крига; Изд-во Сергея Ходова, 2007.
С. 512-513.
9. Жупикова Е.Ф. Е.П. Дурново (Эфрон). История и мифы: Монография. М.: Прометей, 2012. С. 83.10. Эфрон А.С.
10. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. Калининград: Янтарный сказ, 1999. С. 67-68.
11. Жупикова Е.Ф. Е.П. Дурново (Эфрон). История и мифы: Монография. М.: Прометей, 2012. С. 103.
12. Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М.: Эллис лак, 1995. С. 661.
13. Жупикова Е.Ф. Е.П. Дурново (Эфрон). История и мифы: Монография. М.: Прометей, 2012. С. 77-79.
14. Там же. С. 156.
15. Там же. С. 277.
16. Там же. С. 277.
17. «Французская газета "L’Humanite" писала 8 февраля 1910 года: "Гражданка Елизавета Эфрон, рожденная Дурново, и сын ее Константин были похоронены вчера на кладбище Монпарнас. Похороны, организованные друзьями, носили частный характер. Несколько сот русских эмигрантов окружали старшего сына покойной. На кладбище были произнесены речи гр-ми Гарелиным, Рубановичем, Ивиным и Антоновым. Соц-революционная партия и несколько других русских социалистических групп возложили венки. Печальная церемония состоялась при глубоком горе и тяжелом волнении присутствующих"».
Цит. по: Жупикова Е.Ф. Е.П. Дурново (Эфрон). История и мифы: Монография. М.: Прометей, 2012. С.287-288.
18. Цветаева А.И. Воспоминания. М.: Изограф; Дом-музей М.И. Цветаевой, 1995. С. 800.
--------------
Опубликовано: Юдина И.А. Марина Цветаева и семья Дурново-Эфрон: Скрещение судеб. // «Чтобы в мире было двое: Я и мир!»: XIX Международная научно-тематическая конференция (Москва, 8-10 октября 2016 г.): Сб. докл. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2017.
М. Гаспаров, Записи и выписки:
«Только теперь я понимаю, какая это была удача – прочитать стихи Цветаевой, а потом Мандельштама <...>, ничего не зная об авторах. Теперешние читатели сперва получают миф о Цветаевой, а потом уже как необязательное приложение её стихи».
Точнее не скажешь. У меня так и было, да и не только у меня – сужу по некоторым своим друзьям и знакомым юности. Сначала – музей Цветаевой, рассказы о её судьбе. Потом стихи, куда позже, причём сначала юношеское-романтишное, и постепенно, постепенно всё остальное.
Один из элементов мифа – это романтическая история любви «Марины и Серёжи», которую, разумеется, описывают Ариадна Эфрон и Анастасия Цветаева, ну и разные экзальтированные поклонницы Цветаевой. Действительно, если не задумываться, красиво: встретились она – восемнадцатилетняя, он – семнадцатилетний, Коктебель, загаданная и угаданная сердоликовая бусина, ощущение, что это навсегда, брак через полгода, рождение дочери – будущей красавицы и умницы (об этом пишет сама молодая Цветаева, и в стихах, и в письмах того времени), потом... ну, тут лучше пропустить пару лет, не думать о Парнок и всяком таком, потом четырёхлетняя разлука, и тоже о многом лучше не думать, не только об увлечениях, но и о смерти дочери, но за ней – новая встреча, и дальше, почти до самого конца, вместе (последние два года, разумеется, в разлуке, но она продолжала заботиться о нём, передачи, письма в инстанции в т.д.). Лет в шестнадцать такие истории любви производят впечатление.
Крамольная мысль, но тем не менее...
Главной, трагической ошибкой в жизни Цветаевой, которую она сама признавала, был этот самый брак с Эфроном - см., например, запись от 5 декабря 1923 г. в черновой тетради «Тезея»:
"Личная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась. Это надо понять и принять. Думаю - 30-летний опыт (ибо не удалась сразу) достаточен. Причин несколько. Главная в том, что я - я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных - прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке. (Попросту: слишком ранний брак с слишком молодым. 1933 г.)".
Мифологизированный экзальтированными дамами, которых вокруг Цветаевой всегда много, союз, начавшийся 5 мая 1911 года на коктебельском берегу и закончившийся гибелью обоих в 1941 году, он пережил её ровно на полтора месяца. Общую гибель она предугадала точно («Так вдвоём и канем в ночь: Оодноколыбельники...» - это декабрь 1921 года), в отличие от деталей своей собственной смерти, которые не раз возникали в стихах («Знаю, умру на заре...», «Идёшь, на меня похожий...», "Зори ранние на Ваганькове...")
Типичное – и не единственное в биографии Цветаевой – увлечение русской бабы слабым, больным и убогим, которого надо поднять с земли, приютить, обогреть и поесть дать ему (строку из этого стихотворения она делает эпиграфом к «Стихам сироте» - результат ещё одного увлечения Цветаевой), а потом тащить на себе всю жизнь. Собственно, у неё есть стихотворение «Пожалей...», где как раз такая бабья жалость очень точно изображена.
Из-за Эфрона и только из-за него она уехала за границу, в Чехию, где он в то время учился, при том, что было более-менее сразу очевидно, что никакого достойного будущего у них ни там, ни где бы то ни было ещё в послевоенной Европе не ожидается.
Из-за него у Цветаевой были дополнительные трудности в эмиграции: к ней самой многие, по крайней мере, женщины, относились куда лучше, чем к Сергею Яковлевичу, ей сочувствовали, жалели её – даже не понимая размера таланта, не воспринимая стихов.
Она сама с трудным бытом вполне справлялась в разных странах и в разные периоды, если бы жила без мужа, только с сыном, вполне бы выжила и в Париже. В конце концов она справлялась с тяжёлым советским бытом в 1939-1941 годах, пока не началась война: зарабатывала достаточно денег для себя и для сына (и не только на оплату съёмного жилья и еду, книги они покупали, она оплачивала его обучение в школе – с 1940 года старшие классы школы были платными; и ещё передачи в тюрьму и посылки Але в лагерь – она немало описывает покупки и заготовки для этого). Так что будь она в Париже, но без Эфрона, без клейма «советских шпионов», выжила бы с большой вероятностью.
Рассуждения о том, что погубил её кровавый советский режим, не выдерживают критики. Да, её последние годы в родной Москве были ужасны, и невозможно понять и принять того, что многие понаехавшие бездари, именовавшиеся писателями, имели в Москве квартиры или хотя бы комнаты, а ей, москвичке, дочери профессора Московского университета, из семьи, немало для Москвы сделавшей, не нашлось квадратных метров – точно так же, как позже её дочери – своя квартира в Москве у Ариадны Сергеевны появится только в 1965 году, через десять лет после освобождения из лагеря.
Тем не менее у членов её семьи шансов выжить в СССР было больше, чем в оккупированной фашистами Европе. Думается, что Сергей Эфрон не пережил бы войны в любом случае – даже если бы его не арестовали, даже если бы приговор не был смертным, ибо был в последние годы жизни уже совсем больным человеком: и во Франции постоянно болел, так что Марина Ивановна должна была устраивать его в санатории и заботиться о нём, и в СССР бывал в санаториях, в частности, в 1938 году. Хотя и в тюрьме он выдержал около двух лет, хотя допросы были весьма жёсткими, совершенно точно с психологическим (сообщение об аресте жены), а возможно, и с физическим (разная подпись) воздействием... Но Ариадна выжила и прожила ещё 20 лет после освобождения. Умерла в 62 года, несправедливо рано, но нельзя забывать, что кроме тюрьмы, лагерей и ссылки было ещё и голодное больное детство (сердце у неё было больное с юности, об этом ещё до всех арестов ей врачи говорили – так что тут не только проклятый Сталин виноват). То, что погиб Георгий, не связано напрямую с «кровавым режимом» - в этот период войны выживание было отчасти делом случая, а также физической подготовки, умения воевать: те, кого призывали в 1943-1944, имели куда больше шансов выжить, чем те, кто уходил на фронт в первые два года войны. Так что шансы выжить у него всё-таки были. Не знаю, смогла ли бы Цветаева пережить его гибель, но если бы он остался в живых, можно предположить, что они бы после войны встретились и могли бы как-то жить дальше.
А если бы она не вернулась в СССР? Бежать в США, как Набоковы, Эфроны бы не могли: языком ни один из них не владел, преподавать в университете тоже не мог, да и с другими работами спрвлялся, насколько можно судить, не слишком хорошо. Опять же, коммунистические пристрастия Эфрона никаких шансов не давали. Останься она в Париже в 1939 году, её и её семью ждала бы судьба не менее, а может быть, и более трагическая, чем на родине: во-первых, была известна их симпатия к Советскому Союзу. Во-вторых, очень многие знали о работе Эфрона на советские спецслужбы, его считали причастным к убийству Игнатия Рейсса, и после этого убийства и исчезновения Сергея многие отвернулись от Цветаевой – последние полтора года в Париже – это почти полное одиночество. Но даже не будь этого убийства и бегства Эфрона, наверняка кто-нибудь из недругов донёс бы на него и на Ариадну, и их бы ждал арест и гибель как советских шпионов или просто как коммунистов.
Ну и не надо забывать о национальности Сергея Эфрона. Формально он был крещёным и мать его была русской дворянкой (но куда ввязалась и с кем связалась...). В 1940-1942 году они при таком раскладе, возможно, ещё могли бы выжить в Париже, если бы на них свои же, сиречь, русские эмигранты, не настучали, но в 1943-1944 году, при том, что у всех в документах была фамилия «Эфрон», их бы уже с почти стопроцентной вероятностью арестовали как евреев, всех, включая Георгия. И, страшно такое писать, но девятнадцатилетний Георгий Эфрон с куда большей вероятностью погиб бы при таком раскладе в том же 1944 году, только не в Белоруссии, а в Польше (в Освенциме), просто чуть западнее...
Да, это всё очень страшно, но такое было время. И такая вот семья.
А ведь не будь брака с ним, она бы осталась с огромной вероятностью в России. Что бы произошло с ней? Вряд ли ей было бы куда хуже, чем за границей. У неё было бы жильё (да, её начали уплотнять уже в 1920 или 1921 году, но оставили бы ей уж комнату-две в той же квартире – или в любой другой, где её бы могла застать революция, если бы жизнь по-другому развивалась). Она могла бы переводить – то, что она делала, вернувшись на родину. Не думаю, что ей грозил бы арест, как Анастасии – она была куда более цельным человеком, вряд ли был бы повод такой, как в случае Анастасии. В конце концов, Валерия Цветаева не была арестована. Андрей Цветаев умер в 1933 году, и не припоминаю, чтобы у него были какие-то особенные проблемы с властью.
Но миф о «Марине и Серёже» силён... И виноват, разумеется, исключительно кровавый режим и лично товарищ Сталин...
Этот снимок Сергея Эфрона в военной форме, являющийся фрагментом групповой фотографии, достаточно хорошо известен. Но далеко не все знают, что означает цифра 187 на его погонах. А означает она номер санитарного поезда, в котором Эфрон служил в чине зауряд-прапорщика с марта по июль 1915 г.
Военно-санитарные поезда в период Первой мировой войны находились не только в подчинении военного ведомства, но и создавались на общественных началах — частными лицами и различными организациями. Одной из таких общественных организаций был Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам во главе с кн. Г.Е. Львовым. Именно Союзу принадлежал поезд № 187, который с октября 1914 г. совершал рейсы из Москвы в Белосток, Варшаву и другие прифронтовые города. История этого поезда особенно примечательна тем, что связана с именем дочери великого писателя — Александры Львовны Толстой.
В своих воспоминаниях "Дочь" Александра Львовна рассказывает, как в самом начале войны она обратилась с просьбой к Г.Е. Львову отправить ее на фронт. Князь отнесся к Толстой скептически, считая ее человеком непрактичным и не подходящим для ответственной работы. Единственное, что удалось тогда Александре Львовне — это стать сестрой милосердия в санитарном поезде № 187, работавшем на Северо-Западном фронте.
Первый рейс поезд совершил в период с 6 по 21 октября (старого стиля) 1914 г. по маршруту: Москва — Белосток — Гродно — Вильна — Двинск — Режица — Москва. Тогда его пациентами стали 453 человека. В течении октября — ноября 1914 г. было сделано еще несколько рейсов в Восточную Пруссию, во время которых эвакуировались не только русские солдаты, но и пленные германцы, нуждавшиеся в медицинской помощи.

А. Л. Толстая у санитарного поезда № 187.

Врач М. А. Абакумова-Саввиных, А. Л. Толстая и брат милосердия Эмилио Феррарис,
итальянский подданный, преподаватель итальянского языка в Московской консерватории.
Белосток, 10 октября 1914 г.
Наш поезд привозил раненых и больных с фронта в Белосток на санитарный пункт, где их перевязывали и эвакуировали дальше.
Облик нашего старшего врача Марии Александровны Савиных совсем не подходил, в моем представлении, к ее профессии. Она была очень красива. Правильные черты лица, черные брови, карие живые глаза, молодое лицо и... совершенно белые волосы. Мы все уважали и любили ее. Она была прекрасным товарищем — веселая, общительная, но была плохим и неопытным врачом. Пугалась тяжелых случаев ранения, терялась, когда надо было принять экстренные меры, сделать операцию, чтобы спасти раненого или больного.
Раненых привозили прямо с поля сражения, и бывали тяжелые случаи ранения в живот, в голову, иногда умирали тут же во время перевязки.
Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела... черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы. Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась и чтобы задний проход оставался свободным, — было делом не легким... Не знаю, справилась ли я с этой задачей...
Знаю только, что я была неопытна, что надо было пройти еще большую тренировку, чтобы научиться не расстраиваться, забыть об ужасных открытых ранах с белыми жирными червями, чтобы это не мешало мне нормально есть, спать...
Помню еще один случай: на перевязочном пункте в Белостоке я перевязывала солдата, раненного в ногу. Веселый был парень, и, хотя нога у него сильно болела, он радовался, что его эвакуируют: «Домой поеду, к жене, ребятам. Они, небось, соскучились обо мне». Напротив веселого солдата сидел на стуле немец. Рука перевязана кое-как, бурым потемневшим пятном через марлю просочилась кровь.
— Эй, немчура! — вдруг заорал во все горло веселый солдат, — не гут, не гут, зачем ты мне, немецкая морда, ногу прострелил? А? — и показывает на рану.
— Jawohl! — соглашается немец, показывая руку.— Und Sie haben mir auch mein Hand durchgeschossen. [И вы мне тоже руку прострелили.]
— Ну, ладно, немчура, война, ничего не поделаешь... — точно извиняясь, сказал солдат. Оба весело и ласково друг другу улыбнулись.
(А.Л. Толстая. "Дочь")

М. А. Абакумова-Саввиных
Врач Мария Александровна Абакумова-Саввиных, делившая с А.Л. Толстой одно купе, была сибирячка из города Красноярска, вдова золотопромышленника Саввиных, фамилию которого она добавила к своей девичьей. Неопытность Марии Александровны в первые месяцы войны объяснялась тем, что прежде ей не доводилось бывать на руководящих должностях — в Красноярске она занималась частной практикой по женским болезням, а также преподавательской работой. Со временем опыт пришел, и весной 1916 г. Толстая пригласила подругу в свой санитарный отряд, действовавший под эгидой все того же Всероссийского земского союза. В 1923 г. Саввиных перебралась в Ясную Поляну, где работала врачом. Умерла она в Москве в 1935 г.
В настоящее время в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Ясной Поляне хранится принадлежавший ей фотоальбом, посвященный жизни санитарного поезда № 187. Второй подобный альбом, бывший собственностью сестры милосердия Зои Петровны Рязановой (в замуж. Ауэрбах), находится в собрании красноярского исследователя Владимира Чагина, благодаря усилиям которого мы можем теперь познакомиться с редкими снимками мужа Марины Цветаевой.

Сестра милосердия Зоя Рязанова

Старший врач М. А. Абакумова-Саввиных (в центре) с сестрами милосердия и санитарами.
Санитары были немцы-меннониты, которым религия не позволяла брать в руки оружие.

В перевязочной. Вторая слева — М. А. Саввиных.
Как многие студенты в 1915 г., Сергей Эфрон не мог спокойно сидеть за книжками в то время, когда другие воевали. Он решил последовать примеру своей сестры Веры, которая стала сестрой милосердия в санитарном поезде № 182 Всероссийского земского союза.
...Готовимся провожать Асю [Василису Жуковскую] и Сережу. Он купил себе желтую куртку, погоны, сапоги и геройски мерз в этом наряде при отчаянной вьюге, так что в конце концов у него зуб на зуб не попадал.
25 марта 1915 г. Сергей пишет Вере о том, что каждый день дежурит в Союзе, ожидая назначения. Вскоре назначение было получено: ему предстояло стать братом милосердия в поезде № 187. С Александрой Толстой Эфрону встретиться было не суждено: она к тому времени уже покинула службу в поезде, отправившись на турецкий фронт.
28 марта 1915 г. друзья провожали Сергея на вокзал. Вместе с ним в качестве сестры милосердия отправлялась Василиса Александровна (Ася) Жуковская — племянница книгоиздателя Д.Е. Жуковского, женатого на поэтессе Аделаиде Герцык, с которой дружили сестры Марина и Анастасия Цветаевы. Фельдштейн в письме к Вере Эфрон от 30 марта 1915 г. так описывает эти проводы:
Два дня тому назад уехали Ася и Сережа в поезде № 187. Я проводил их на Нижегородскую станцию. Поезд по виду очень хорош и персонал, кажется, не дурен. Ася в куртке, повязке и с крестом — такое воплощение святости взятых на себя обязанностей, что сердце каждого истинного патриота должно трепетать от радости... Сережа был желт, утомлен, очень грустен и наводил на невеселые мысли. Откровенно говоря, он мне не нравится. Так выглядят люди, которых что-то гнетет помимо всякого нездоровья. Провожали Марина, Ася [Анастасия Цветаева] и рядом с ней какой-то покорный рыженький еврейчик [М.А. Минц], по-видимому новый кандидат в самоубийцы. Он смиренно нес пять экземпляров "Королевских размышлений", последнего произведения Асиной фантазии. Асе Жуковской и Сереже устроиться вместе удалось не сразу. В Союзе их приняли за влюбленных и не пожелали содействовать ослаблению нравов, отправляя их в одном поезде.
Помимо патриотических побуждений отъезд Сергея Эфрона имел еще и личные причины: его сильно угнетал бурный роман Марины с Софьей Парнок. Чувствуя себя лишним в этом любовном треугольнике, он решил, что будет благоразумнее на время удалиться.


Василиса Жуковская (стоит слева) и Сергей Эфрон в дверях поезда.
Дорогая моя Лиленька — сейчас вечер, в моем купэ никого нет и писать легко. За окном бесконечные ряды рельс запасных путей, а за ними дорога в Седлец, около которого мы стоим. Все время раздаются свистки паровозов, мимо летят санитарные поезда, воинские эшелоны — война близко.
Сегодня я с двумя товарищами по поезду отправился на велосипеде по окрестностям Седлеца. Захотелось пить. Зашли в маленький домик у дороги и у старой, старой польки, которая сидела в кухне, попросили воды. Увидав нас она засуетилась и пригласила нас в парадные комнаты. Там нас встретила молодая полька с милым грустным лицом. Когда мы пили, она смотрела на нас и ей видимо хотелось заговорить. Наконец она решилась и обратилась ко мне:
— О почему пан такой мизерный? [изможденный, осунувшийся — польск.] Пан ранен?
— Нет я здоров.
— Нет, нет пан такой скучный (я просто устал) и мизерный (по-русски это звучит обидно, а по-польски совсем иначе). Пану нужно больше кушать, пить молока и яйца.
Мы скоро вышли. И вот я не офицер и не ранен, а ее слова подействовали на меня необычайно сильно. Будь я действительно раненым офицером мне бы они всю душу перевернули.
Сохранилось фото, сделанное в день этой велосипедной прогулки.

Сергей Эфрон с велосипедом (слева). Крайняя справа сидит Зоя Рязанова.
Седлец, 4 апреля 1915 г.

Сергей Эфрон и Мария Саввиных (лежит слева) с сестрами милосердия.
За Эфроном Жуковская.

Персонал санитарного поезда № 187. Фото сделано в г. Седлец (ныне Седльце в Польше) весной или в начале лета 1915 г.
В центре сидят начальник поезда (в чине подпоручика) и старший врач М.А. Абакумова-Саввиных, вторая справа от Саввиных —
Зоя Рязанова (в белой косынке). Справа от нее во втором ряду — три прапорщика, в том числе Сергей Эфрон (сидит в профиль).
Василиса Жуковская крайняя слева во втором ряду.

Сергей Эфрон (справа) у поезда.

1 мая 1915 г. на станции Багратионовская. Сергей Эфрон с шашкой в руке.

В тот же день на Багратионовской. Сцена из какого-то театрализованного действа.

Фрагмент этой фотографии, вставленный в медальон, Эфрон подарил Марине Цветаевой.
Ныне медальон хранится в Доме-музее М.Цветаевой в Москве.

Нас сегодня или завтра отправляют в Москву на ремонт — до этого мы подвозили раненых и отравленных газом с позиций в Варшаву. Работа очень легкая — так как перевязок делать почти не приходилось. Видели массу, но писать об этом нельзя — не пропустит цензура.
В нас несколько раз швыряли с аэропланов бомбы — одна из них упала в пяти шагах от Аси и в пятнадцати от меня, но не разорвалась (собственно, не бомба, а зажигательный снаряд).
После Москвы нас, кажется, переведут на юго-западный фронт — Верин поезд уже переведен туда.
Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером и был момент, когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо неловко мне от моего мизерного братства — но на моем пути столько неразрешимых трудностей.
Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти. Убийство на войне меня сейчас совсем не пугает, несмотря на то, что вижу ежедневно и умирающих и раненых. А если не пугает, то оставаться в бездействии невозможно. Не ушел я пока по двум причинам — первая, страх за Марину, а вторая — это моменты страшной усталости, которые у меня бывают, и тогда хочется такого покоя, так ничего, ничего не нужно, что и война-то уходит на десятый план.
Здесь, в такой близости от войны, все иначе думается, иначе переживается, чем в Москве — мне бы очень хотелось именно теперь с тобой поговорить и рассказать тебе многое.
Солдаты, которых я вижу, трогательны и прекрасны. Вспоминаю, что ты говорила об ухаживании за солдатами — о том, что у тебя к ним нет никакого чувства, что они тебе чужие и тому подобное. Как бы здесь у тебя бы все перевернулось и эти слова показались бы полной нелепостью.
Меня здесь не покидает одно чувство: я слишком мало даю им, потому что не на своем месте. Какая-нибудь простая «неинтеллигентная» сестрития дает солдату в сто раз больше. Я говорю не об уходе, а о тепле и любви. Всех бы братьев, на месте начальства, я забрал бы в солдаты, как дармоедов. Ах, это все на месте видеть нужно! Довольно о войне.
— Ася очень трогательный, хороший и значительный человек — мы с ней большие друзья. Теперь у меня к ней появилась и та жалость, которой недоставало раньше.

Сергей Эфрон и Василиса Жуковская в окне поезда (слева).

Сергей Эфрон с фотоаппаратом.
С 1 июля 1915 г. Вера Эфрон решила уволиться из санитарного поезда № 182, чтобы поступить актрисой в Камерный театр Таирова. За день до этого, 30 июня, Сергей пишет ей:
Милая Верочка, у самой Москвы — на ходу видел мельком твой поезд — какая обида!
Этот наш рейс будет, вероятно, коротким и если ты не уедешь из Москвы — мы скоро увидимся...
С Союзе на твое место будет проситься сестра с нашего поезда Татьяна Львовна Мазурова — ее смело можешь рекомендовать как прекрасного человека и работника. Хотя наверное твой поезд уже ушел.
Сейчас короткая остановка в Минске. Куда едем — неизвестно.
Предыдущий рейс был исключительно интересным — мы подвозили раненых из Жирардова и Теремна.
Милая Лиленька, снова был в Москве и застал там Веру. Она была такой нежной, ласковой, трогательной и прекрасной, какой я ее никогда не видел. Мы провели вместе прекрасный день...
Уезжать нам с Асей [Жуковской] страшно не хотелось, а пришлось и сейчас мы уже мчим (как мчим ты знаешь) к Варшаве.
В последнее время очень много работы — завязались бои и в Москве нас более суток не держат...
Я мечтаю после этого рейса на время бросить службу и поселиться с Верой на даче. Отдых для меня необходим — лето уже кончается, а что будет зимой неизвестно.
Не удивляйся параличному почерку — вагон немилосердно качает.
Милая Лиленька, не пишу тебе потому что замотался до смерти.
Сейчас у нас кошмарный рейс. Подробности потом. Думаю, что после этого рейса буду долго отдыхать или совсем брошу работу. Ты даже не можешь себе представить десятой доли этого кошмара.
К концу июля 1915 г. Эфрон оставил работу в санитарном поезде. Он уехал отдыхать в Коктебель к Волошину, а затем вернулся к учебе в Московском университете.
После него на службу в поезд № 187 пришел его товарищ по Московскому университету Всеволод Богенгардт, о котором будет отдельный рассказ.
Георгий Эфрон – не просто «сын поэта Марины Цветаевой», а самостоятельное явление в отечественной культуре. Проживший ничтожно мало, не успевший оставить после себя запланированных произведений, не совершивший каких-либо иных подвигов, он тем не менее пользуется неизменным вниманием историков и литературоведов, а также обычных любителей книг – тех, кто любит хороший слог и нетривиальные суждения о жизни.
Франция и детство
Георгий родился 1 февраля 1925 года, в полдень, в воскресенье. Для родителей – Марины Цветаевой и Сергея Эфрона – это был долгожданный, вымечтанный сын, третий ребенок супругов (младшая дочь Цветаевой Ирина умерла в Москве в 1920 году).

Отец, Сергей Эфрон, отмечал: «Моего ничего нет… Вылитый Марин Цветаев!»
С самого рождения мальчик получил от матери имя Мур, которое так и закрепилось за ним. Мур – это было и слово, «родственное» ее собственному имени, и отсылка к любимому Э.Т. Гофману с его незавершенным романом Kater Murr, или «Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов с биографией капельмейстера Иоганнеса Крейслера».

Не обошлось без некоторых скандальных слухов – молва приписывала отцовство Константину Родзевичу, в которых Цветаева некоторое время находилась в близких отношениях. Тем не менее сам Родзевич никогда не признавал себя отцом Мура, а Цветаева однозначно давала понять, что Георгий – сын ее мужа Сергея.
Ко времени рождения младшего Эфрона семья жила в эмиграции в Чехии, куда переехала после гражданской войны на родине. Тем не менее уже осенью 1925 года Марина с детьми – Ариадной и маленьким Муром переезжает из Праги в Париж, где Мур проведет свое детство и сформируется как личность. Отец остался на некоторое время в Чехии, где работал в университете.

Мур рос белокурым «херувимчиком» - пухленьким мальчиком с высоким лбом и выразительными синими глазами. Цветаева обожала сына – это отмечали все, кому доводилось общаться с их семьей. В ее дневниках записям о сыне, о его занятиях, склонностях, привязанностях, уделено огромное количество страниц. «Острый, но трезвый ум», «Читает и рисует – неподвижно – часами» . Мур рано начал читать и писать, в совершенстве знал оба языка – родной и французский. Его сестра Ариадна в воспоминаниях отмечала его одаренность, «критический и аналитический ум». По ее словам, Георгий был «прост и искренен, как мама».

Возможно, именно большое сходство между Цветаевой и ее сыном породило такую глубокую привязанность, доходящую до преклонения. Сам же мальчик держался с матерью скорее сдержанно, друзья отмечали порой холодность и резкость Мура по отношению к матери. Он обращался к ней по имени – «Марина Ивановна» и так же называл ее в разговоре – что не выглядело неестественно, в кругу знакомых признавали, что слово «мама» от него вызывало бы куда больший диссонанс.
Дневниковые записи и переезд в СССР

Мур, как и его сестра Ариадна, с детства вел дневники, но большинство из них были утеряны. Сохранились записи, в которых 16-летний Георгий признается, что избегает общения, потому что хочет быть интересным людям не как «сын Марины Ивановны, а как сам «Георгий Сергеевич».
Отец в жизни мальчика занимал мало места, они месяцами не виделись, из-за возникшей холодности в отношениях между Цветаевой и Ариадной сестра так же отдалилась, занятая своей жизнью – поэтому настоящей семьей можно было назвать только их двоих – Марину и ее Мура.

Когда Муру исполнилось 14, он впервые приехал на родину его родителей, которая теперь носила название СССР. Цветаева долго не могла принять это решение, но все же поехала – за мужем, который вел свои дела с советскими силовыми структурами, отчего в Париже, в эмигрантской среде, к Эфронам возникло неоднозначное, неопределенное отношение. Все это Мур чувствовал отчетливо, с проницательностью подростка и с восприятием умного, начитанного, думающего человека.

В дневниках он упоминает о своей неспособности быстро устанавливать крепкие дружеские связи – держась отчужденно, не допуская к сокровенным мыслям и переживаниям никого, ни родных, ни приятелей. Мура постоянно преследовало состояние «распада, разлада», вызванное как переездами, так и внутрисемейными проблемами – отношения между Цветаевой и ее мужем все детство Георгия оставались сложными.
Одним из немногих близких Муру друзей был Вадим Сикорский, «Валя», в будущем – поэт, прозаик и переводчик. Именно ему и его семье довелось принять Георгия в Елабуге, в страшный день самоубийства его матери, которое произошло, когда Муру было шестнадцать.

После смерти Цветаевой
После похорон Цветаевой Мура отправили сначала в Чистопольский дом-интернат, а затем, после недолгого пребывания в Москве, в эвакуацию в Ташкент. Следующие годы оказались наполнены постоянным недоеданием, неустроенностью быта, неопределенностью дальнейшей судьбы. Отец был расстрелян, сестра находилась под арестом, родственники – далеко. Жизнь Георгия скрашивали знакомства с литераторами и поэтами – прежде всего с Ахматовой, с которой он на некоторое время сблизился и о которой с большим уважением отзывался в дневнике, – и редкие письма, которые наряду с деньгами присылали тетя Лили (Елизавета Яковлевна Эфрон) и гражданский муж сестры Муля (Самуил Давидович Гуревич).

В 1943 году Муру удалось приехать в Москву, поступить в литературный институт. К сочинительству он испытывал стремление с детства – начиная писать романы на русском и французском языках. Но учеба в литинституте не предоставляла отсрочки от армии, и окончив первый курс, Георгий Эфрон был призван на службу. Как сын репрессированного, Мур служил сначала в штрафбатальоне, отмечая в письмах родным, что чувствует себя подавленно от среды, от вечной брани, от обсуждения тюремной жизни. В июле 1944 года, уже принимая участие в боевых действиях на первом Белорусском фронте, Георгий Эфрон получил тяжелое ранение под Оршей, после чего точных сведений о его судьбе нет. По всей видимости, он умер от полученных ранений и был похоронен в братской могиле – такая могила есть между деревнями Друйкой и Струневщиной, но место его смерти и захоронения считается неизвестным.

«На лоб вся надежда» - писала о сыне Марина Цветаева, и невозможно точно сказать, сбылась ли эта надежда, или же ей помешал хаос и неопределенность сначала эмигрантской среды, потом возвращенческой неустроенности, репрессий, потом войны. На долю Георгия Эфрона за 19 лет его жизни выпало больше боли и трагедии, чем принимают на себя герои художественных произведений, бесчисленное количество которых прочитал и еще мог бы, возможно, написать он сам. Судьба Мура заслуживает звания «несложившейся», но тем не менее свое собственное место в русской культуре он успел заслужить – не просто как сын Марины Ивановны, а как отдельная личность, чей взгляд на свое время и свое окружение нельзя переоценить.
Жизненный путь отца Мура, Сергея Эфрона, хоть и тоже прошел в тени Цветаевой, все же был насыщен событиями - и одним из них стало
XX век вошел в историю России как один из самых тяжелых для страны. Две революции, две мировые войны, репрессии, несколько волн эмиграции — все это оставило свои шрамы не только на государстве в целом, но и на каждой семье в отдельности. Немало пострадали Эфроны — родные и близкие великого поэта Марины Цветаевой со стороны ее мужа Сергея.
Выставка «Сто лет всего» в Доме-музее Марины Цветаевой, повествует о нескольких поколениях семьи Эфрон. Предметы и многочисленные письма раскрывают перипетии их судеб, рассказывая глубоко личные и трагичные истории. О нескольких экспонатах с этой выставки — в материале «Мосгортура».
Веер Елизаветы Дурново
Родители Сергея Эфрона, Елизавета Петровна Дурново и Яков Константинович Эфрон, происходили из разных слоев общества: она — потомственная дворянка, он — выходец из бедной еврейской семьи.
Отец и мать Елизаветы были вхожи в высшие круги общества обеих столиц — посещали званые вечера, официальные мероприятия, в том числе многочисленные балы.
Первый бал Елизаветы Петровны состоялся в доме московского генерал-губернатора. Дебютантка долго подбирала наряд и в конце концов лейтмотивом своего костюма выбрала ландыши — они украсили ее прическу и платье. Образ дополнил веер из слоновой кости.
Через несколько лет Елизавета Петровна вступила в революционный кружок «Земля и воля» и ее взгляды на власть и аристократическую верхушку общества, частью которой она сама являлась, резко поменялись — теперь она готова была вонзить нож в бок тому самому генерал-губернатору, который еще недавно любезно приветствовал ее у себя дома.
Веер Елизаветы Дурново. (Антон Усанов. МОСГОРТУР)
На собрания «Земли и воли» приходили совершенно разные люди — от крестьян до представителей дворянства. На одной из таких встреч и познакомились Елизавета Петровна и Яков Константинович. Из-за преследования российских властей вскоре они вынуждены были уехать за границу. Они поселились во Франции и в 1885 году в одном из православных храмов Марселя поженились. После рождения в том же году их первой дочери Анны, Елизавета и Яков отошли от революционных дел, посвятив себя семье.
Табличка с могилы Якова Эфрона, Елизаветы Дурново и Константина Эфрона
После завершения революционной карьеры Эфроны не раз пытались вернуться в Российскую империю и лишь в 1886 году их прошение было принято. В первое время после возращения на родину они вели тихую семейную жизнь, воспитывая многочисленных детей — к рожденным еще во Франции Анне, Петру и Елизавете в России прибавились Вера, Глеб, Сергей и Константин.
Но спокойная жизнь продолжалась недолго — в 1901 году их фамилия Эфрон вновь начала появляться в полицейских сводках. Повзрослевшие дочери — Анна и Вера — стали принимать участие в студенческих революционных кружках, а вскоре на тропу антиправительственной деятельности вновь ступила и их мать. Елизавету Петровну несколько раз задерживали, а после одного из арестов поместили в Бутырскую тюрьму. На свободу она вышла только через 9 месяцев, после того как за нее внесли залог. Полицейское преследование вынудило Елизавету Петровну опять бежать за границу.

Табличка с могилы Якова Эфрона, Елизаветы Дурново и Константина Эфрона. (Антон Усанов. МОСГОРТУР)
В 1907 году она вместе с сыном Константином уехала в Женеву, а оттуда перебралась в Париж. Период пребывания в столице Франции стал одним из самых трагичных в жизни членов семьи Эфрон.
В начале 1909 года к жене, уже будучи тяжелобольным, приехал Яков Константинович, в июне этого же года он умер. Через полгода семью ожидала очередная трагедия — в 1910 году покончил с собой младший сын Эфронов — четырнадцатилетний Константин. Мать, оставшаяся один на один с этой трагедией, не сумела справиться с горем и на следующий день тоже свела счеты с жизнью.
Мемориальная табличка появилась на надгробном камне родителей и сына в 1938 году, ее установила Марина Цветаева. В фондах музея этот предмет оказался в 1982 году.
Портрет Сергея Эфрона
Трагедия, потрясшая оставшихся детей, не могла не повлиять на их жизни. Желая как-то поддержать осиротевших Эфронов, известный поэт и художник Максимилиан Волошин пригласил их к себе на дачу в Коктебель. Лето 1911 года стало временем «обормотов» — так сами себя называли представители кружка, сформировавшегося тогда среди гостей дома литератора. Месяцы, проведенные у него в гостях, подарили Эфронам многочисленные новые знакомства. Больше всех повезло Сергею — здесь он встретил Марину Цветаеву.

Портрет Сергея Эфрона. (Антон Усанов. МОСГОРТУР)
Молодые люди очень нравились друг другу и много времени проводили вместе. Как-то Марина собирала на крымском пляже красивые камни, а Сергей помогал ей «Если он найдет и принесет мне сердолик — обязательно выйду за него замуж», — подумала тогда Цветаева. Именно этот камень Эфрон ей и подарил. Марина романтизировала его, видя в их встрече руку судьбы. Марина находила фамилию Сергея похожей на имя героя ее любимой древнегреческой трагедии — Орфея. Кроме того, его инициалы совпадали с инициалами первого возлюбленного матери Цветаевой — того тоже звали Сергей Э.
В 1912 году, как только Сергею Эфрону исполнилось 18 лет, они с Мариной Цветаевой поженились. Так началась их трудная семейная жизнь.
Портрет Сергея Эфрона, написанный с натуры Максимилианом Волошиным, был предоставлен для выставки Домом-музеем М. А. Волошина в Коктебеле.
Письмо Нюры Эфрон
«Дорогие Лиля и Вера. Поздравляю с Рождеством Христовым. Будете ли вы праздновать Новый год?» — спрашивает своих тёток в письме от 13 декабря 1917 года дочь Анны Эфрон Нюра. Прошедший год, в который страну потрясло сразу две революции, стал поворотным моментом и в истории семьи Эфрон. Кто-то из них принял советскую власть, кто-то — нет.
Старшая из детей Эфронов Анна и ее муж Александр Трупчинский были рады установлению нового порядка и активно сотрудничали с советской властью. Еще до революции у Анны Эфрон было богатое партийное прошлое (с 1907 года она состояла в ЦК большевиков), что помогло их семье не попасть под «уплотнение» и остаться в своей трехкомнатной квартире.

Письмо Нюры Эфрон. (Антон Усанов. МОСГОРТУР)
Сергей Эфрон принял сторону белых офицеров и участвовал в боях с большевиками. В 1921 году, после победы Красной армии в Гражданской войне, ему пришлось уехать в эмиграцию. Через Константинополь он попал в Чехию, в Прагу, где поступил на философский факультет. В Россию он вернулся только в 1937 году, уже став агентом ОГПУ.
Вера Эфрон и ее муж Михаил Фельдштейн практически сразу после Гражданской войны ушли в молчаливую оппозицию новой власти. В 1920 году они столкнулись с первыми притеснениями со стороны вышестоящих органов.
Всю свою жизнь Вера Эфрон стремилась быть актрисой, но после революции она не смогла продолжить театральную карьеру и стала преподавать детям драматизацию. Сестра Анна обвиняла ее в том, что она «не в силах понять трудность и напряженность современной жизни» и думает, что «можно жить по старинке, любуясь природой и собственным прекраснодушием».
Михаил Соломонович был профессором МГУ и занимался исследованием политических систем. Знакомые характеризовали Фельдштейна, как «теоретика-государственника, склонного анализировать события, а не принимать в них участия». Но все равно его деятельность показалась властям подозрительной и в 1920 году его в первый раз арестовали, обвинив в создании контрреволюционной организации. Несмотря на тяжесть обвинения, приговор оказался достаточно мягким — 5 лет условного срока. Однако этот арест стал не единственным взаимодействием Михаила Фельдштейна с НКВД. Через несколько лет советская репрессивная система сыграла решающую роль в его судьбе.
Письмо Веры Эфрон и ответ из НКВД
После 1920 года Михаила Фельдштейна арестовывали еще несколько раз, но все время ему удавалось избегать тяжелых последствий и оставаться на свободе. Последним стало задержание 26 июля 1938 года.
Вероятным поводом для этого ареста стала деятельность Фельдштейна в качестве юрисконсульта в организации, защищавшей права политзаключенных. История задержаний Михаила Соломоновича отразилась на ходе суда — его обвинили в том, что «с 1921 года до дня ареста являлся одним из руководителей подпольной кадетской организации в Москве, а также в том, что являлся немецким агентом, вёл на территории СССР разведывательную работу в пользу Германии».

Письмо Веры Эфрон и ответ из НКВД. (Антон Усанов. МОСГОРТУР)
Своему арестованному мужу Вера Эфрон отправляла деньги, передавала посылки, пока 16 марта 1939 года не получила справку о том, что он отправлен в «дальний лагерь, без срока, без права переписки». Зная, что в официальном советском уголовном законодательстве нет такой меры, она написала письмо в НКВД, где просила «дать 1) точную формулировку приговора, 2) указать статью обвинения и 3) сообщить какая судебная инстанция вынесла ему приговор». На это в апреле Вера Яковлевна получила сухой ответ: «Ваше заявление нами получено и проверено. Ваш муж осужден. Просьба Ваша отклонена».
В этих трех строчках не нашлось место самому главному — еще 20 февраля 1939 года Михаил Соломонович Фельдштейн был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение в тот же день.
О судьбе своего мужа Вера Эфрон так и не узнала — она умерла в 1945 году, думая, что Михаил Соломонович все еще находится в лагере.
О судьбах других членов семьи Эфрон можно узнать на выставке «Сто лет всего», которая проходит в Доме-музее Марины Цветаевой до 29 марта 2020 года.