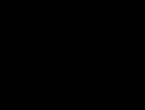В. Розанов. Опавшие листья
Розанов В.
Опавшие листья
Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.
Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.
Даже не интересно...
Что значит, когда "я умру"?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу. Еще что? Библиографы будут разбирать мои книги. А я сам? Сам?- ничего. Бюро получит за похороны 60 руб. и в "марте" эти 60 руб. войдут в "итог". Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания. Какие ужасы!
Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва - где "я не могу"; где "я могу" - нет молитвы.
Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют.
"Прибавляет" только теснейшая и редкая симпатия, "душа в душу" и "один ум". Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.
И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.
Да. Смерть - это тоже религия. Другая религия.
Никогда не приходило на ум.
Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.
Смерть - конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни "самых законов геометрии".
Да, "смерть" одолевает даже математику. "Дважды два - ноль".
Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд дают ноль.
Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду дают ноль.
Кому этот "ноль" нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?
Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама - Бог? На Божьем месте?
Ужасные вопросы.
Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.
Смерть "бабушки" (Ал. Адр. Руд.) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было грустно за нее. Но я и "со мною" - ничего не переменилось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело "со мною" не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне не нужна? Ужасное подозрение. Значит, вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения в них, так сказать, взятых от подошвы до вершины, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это одиночество вещей еще ужаснее.
Итак, мы с мамой умрем и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена настанет только для нас. "Конец", "кончено". Это "кончено" не относительно подробностей, но целого, всего - ужасно.
Я кончен. Зачем же я жил?!!!
Как самые счастливые, минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. С. и А. П. П-ва, рассказ "друга" о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден созерцателем, а не действователем.
Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить. Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что он послал меня увидеть?
Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?
Что же я скажу?
Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но он ничего не услышит от меня.
Я пролетал около тем, но не летел на темы.
Самый полет - вот моя жизнь. Темы - "как во сне".
Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле.
На том свете буду без тем.
Бог меня спросит:
Что же ты сделал?
Нужно хорошо "вязать чулок своей жизни" и - не помышлять об остальном. Остальное - в "Судьбе": и все равно там мы ничего не сделаем, а свое ("чулок") испортим (через отвлечение внимания).
Эгоизм - не худ; это - кристалл (твердость, неразрушимость) около "я". И, собственно, если бы все "я" были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., "государство" (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть 1/1000 правоты в "анархизме"; не нужно "общего", : и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы вглядеться, что такое "доисторическое существование народов": по Дрэперу и таким же, это - "троглодиты", так как не имели "всеобщего обязательного обучения" и их не объегоривали янки; но по Библии - это был "рай". Стоит же Библия Дрэпера.
Не литература, а литературность ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое переживание переливается в играющее, живое слово, но этим все и кончается - само переживание умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуждает, о, нет! Оно расхолаживает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове "так себе". От этого после "золотых эпох" в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, ее апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.
Вот почему литературы в сущности не нужно, тут прав К. Леонтьев. "Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга?" В самом деле, почему? Почему "век Николая" был "веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя", а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет - так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты назвали полководцев "Скалозубами" и "Бетрищевыми". Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не "великая литература", а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература может быть и "кой-какая" - "на задворках".
Поэтому нет ли провиденциальности, что здесь "все проваливается"? Что - не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь, а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б. мы живем в великом окончании литературы.
Иду. Иду. Иду. Иду... И где кончится мой путь - не знаю.
И не интересуюсь. Что-то стихийное и не человеческое. Скорее "несет", а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.
После книгопечатания любовь стала невозможной.
Какая же любовь "с книгою"?
Bсe бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не "заплатывается" с тех пор, как была. Это лучше "бессмертия души", которое сухо и отвлеченно.
Я хочу "на тот свет" прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше.
Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере холодности и какого-то безучастия к ним (странно сказать) в "сословном разделении".
Соловьев если не был аристократ, то все равно был в славе (в излишней славе). Мне твердо известно, что тут -не зависть (мне все равно). Но, говоря с Рачинским об одних мыслях и будучи одних взглядов (на церковную школу), я помню, что все им говоримое было мне чужое; и тоже - с Соловьевым, тоже - с Толстым. Я мог ими всеми тремя любоваться (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их почему -то не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывала большее движение души, чем их "философия и публицистика" (устно). Эта "раздавленная собака", пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой "раздавленности", напротив, сами они весьма и весьма "давили" (полемика, враги и пр.). Толстой ставит то "x", то "i" Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены, и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними "водиться" (знаться). "Ну, и успевайте, господа,-мое дело сторона". С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя "предмета". Как я любил и люблю Страхова, любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о "мелочах жизни", которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно то или того, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины "душе болеть", и от этого я их не любил.
Пост не имеет отношения к кино. Просто было необходимо сделать страничку, куда бы я мог выписывать цитаты из «Опавших листьев» В. Розанова , чтобы потом можно было легко найти необходимое. А где же ее сделать еще, как не в своем блоге =)
Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере холодности и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении».
Соловьев если не был аристократ, то все равно был «в славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но говоря с Рачинским об одних мыслях и будучи одних взглядов (на церковн. школу), — я помню, что все им говоримое было мне чужое: и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя любоваться (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их почему-то не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.). Толстой ставит тó «3», тó «1» Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними «водиться» (знаться). «Ну, и успевайте, господа, — мое дело сторона». С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя «предмета». Как я любил и люблю Страхова, любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о «мелочах жизни», которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно тó, или — тогó, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины «душе болеть», и от этого я их не любил.
«Сословное разделение»: я это чувствовал с Рачинским. Всегда было «все равно», что бы он ни говорил; как и о себе я чувствовал, что Рачинскому было «все равно», что у меня в душе, и он таким же отдаленным любленьем любил мои писания (он их любил, — по-видимому). Тут именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно непонимание в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой: — его, и — мой». С Рцы (дворянин) мы понимали же друг друга с 1/2 слова, с намека; но он был беден, как и я, «не нужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»; и люди не на словах становятся братья.
***
Ум, положим, — мещанинишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь.
Надо ходить в чищеных сапогах; надо, чтобы кто-то сшил платье. «Илья-пророк» все-таки имел милоть, и ее сшил какой-нибудь портной.
Самое презрение к уму (мистики), т. е. к мещанину, имеет что-то на самом конце своем — мещанское. «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке». Сказавший или подумавший так ео ipso<> обращается в псевдобарина и лжепророка.
Настоящее господство над умом должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятанным; это должно быть субъективной тайной. Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени назвать Спенсера «вашим превосходительством», — и вообще не подать никакого вида о настоящей мере Спенсера.
***
Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает».
***
25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили. Отчет в «Нов. Вр.».
Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?
Очевидно, гг. писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.
Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь. Так Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море.
«Дорого да сердито…» Тут наоборот — «не дорого и не сердито».
***
Одни молоды, и им нужно веселье, другие стары, и им нужен покой, девушкам — замужество, замужним — «вторая молодость»… И все толкаются, и вечный шум.
Жизнь происходит от «неустойчивых равновесий». Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни.
Но неустойчивое равновесие — тревога, «неудобно мне», опасность. Мир вечно тревожен, и тем живет.
Какая же чепуха эти «Солнечный город» и «Утопия»: суть коих вечное счастье. Т. е. окончательное «устойчивое равновесие». Это не «будущее», а смерть.
(провожая Верочку в Лисино, вокзал).
Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм — буря, дождь, ветер…
Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: «Неужели он (соц.) был?» «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»
— О, да! И еще скольких этот град побил!!
— «Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»
* * *
Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от нее… Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да будет…
***
Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя — уже определение, уже «чтó-то знаем». Но ведь мы же об этом ничего не знаем. И, произнося в разговорах «смерть», мы как бы танцуем в бланманже для ужина или спрашиваем: «Сколько часов в миске супа?» Цинизм. Бессмыслица.
***
Любовь есть боль. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого).
***
Революция имеет два измерения — длину и ширину; но не имеет третьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь спелого, вкусного плода; никогда не «завершится»…
Она будет все расти в раздражение; но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: «Довольно! Я — счастлив! Сегодня так хорошо, что не надо завтра»… Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на «завтра»… И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра». Perpetuum mobile, circulus vitiosus,<> и не от бесконечности — куда! — а именно от короткости. «Собака на цепи», сплетенной из своих же гнилых чувств. «Конура», «длина цепи», «возврат в конуру», тревожный коротенький сон.
В революции нет радости. И не будет.
Радость — слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея.
Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она матерьялистична. Но это — не случай, не простая связь с «теориями нашего времени»; это — судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта-Спенсера и подобных.
Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая, archeus agens<> ее — горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это — чернота, демократия. Верхняя пластинка — золотая: это — сибариты, обеспеченные и не делающие; гуляющие; не служащие. Но они чем-нибудь «на прогулках» были уязвлены, или — просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны. Притом в своем кругу они — только «равные», и кой-кого даже непременно пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся primi inter pares.<> Демократия очень и очень умеет «целовать в плечико», ухаживать, льстить: хотя для «искренности и правдоподобия» обходится грубовато, спорит, нападает, подшучивает над аристократом и его (теперь вчерашним) аристократизмом. Вообще демократия тоже знает, «где раки зимуют». Что «Короленко первый в литераторах своего времени» (после Толстого), что Герцен — аристократ и миллионер, что граф Толстой есть именно «граф», а князь Кропоткин был «князь», и, наконец, что Сибиряков имеет золотые прииски — это она при всем «социализме» отлично помнит, учтиво в присутствии всего этого держит себя, и отлично учитывает. Учитывает не только как выгоду, но и как честь. Вообще в социализме лакей неустраним, но только очень старательно прикрыт. К Герцену все лезли и к Сибирякову лезли; к Шаляпину лезут даже за небольшие рубли, которые он выдает кружкам в виде «сбора с первого спектакля» (в своих турне: я слышал это от социал-демократа, все в этой партии знающего, и очень удивился). Кропоткин не подписывается просто «Кропоткин», «социалист Кр.», «гражданин Кр.», а «князь Кропоткин». Не забывают даже, что Лавров был профессором. Ничего, одним словом, не упускают из чести, из тщеславия: любят сладенькое, как и все «смертные». В тó же время так презирая «эполеты» и «чины» старого строя…
Итак, две пластинки: движущая — это черная рать внизу, «нам хочется», и — «мы не сопротивляемся», пассивная, сверху. Верхняя пластинка — благочестивые Катилины; «мы великодушно сожжем дом, в котором сами живем и жили наши предки». Черная рать, конечно, вселится в дóмы этих предков: но как именно это — черная рать, не только по бедности, но и по существу бунта и злобы (два измерения, без третьего), то в «новых домах» она не почувствует никакой радости: а как Никита и Акулина «в обновках» (из «Власти тьмы»):
«- Ох, гасите свет! Не хочу чаю, убирайте водку!»
Венцом революции, если она удастся, будет великое volo:
— Уснуть.
Самоубийства — эра самоубийств…
И тут Кропоткин с астрономией и физикой и с «дружбой Реклю» (тоже тщеславие) очень мало помогут.
Возможно ли, чтобы позитивист заплакал?
Так же странно представить себе, как что «корова поехала верхом на кирасире».
И это кончает разговоры с ним. Расстаюсь с ним вечным расставанием.
Позитивизм в тайне души своей или точнее в сердцевине своего бездушия:
И пусть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать.
Позитивизм — философский мавзолей над умирающим человечеством.
Не хочу! Не хочу! Презираю, ненавижу, боюсь!!!
* * *
* * *
Велик горб человечества, велик горб человечества, велик горб человечества…
Идет, кряхтит, с голым черепом, с этим огромным горбом за спиною (страдания, терпение) великий древний старик; и кожа на нем почернела, и ноги изранены…
Чтó же тут молодежь танцует на горбе? «Мы — последние», всё — «мы», всё — «нам».
Ну, танцуйте, господа.
(за нумизматикой)
* * *
Все жду, когда Григорий Спиридонович П-в напишет свою автобиографию. Ведь он замечательный человек.
Конечно, Короленко — более его замечательный человек: и напечатал чуть не том своего жизнеописания, — под грациозной вуалью: «История моего современника». Но отчего же не написать и Гр. Сп. П-ву? Не один Кутузов имел себе Михайловского-Данилевского: мог бы иметь и Барклай-де-Толли. Отчего «нашим современникам» не соединить в себе полководца и жизнеописателя, — так сказать, поместить себе за пазуху «Михайловского-Данилевского» и продиктовать ему все слова.
— «Мне Тита Ливия не надо», — говорят «современные» Александры Македонские. «Я довольно хорошо пишу, и опишу сам свой поход в Индию».
* * *
Если Философову случится пройти по мокрому тротуару без калош, то он будет неделю кашлять: я не понимаю, какой же он друг рабочих?
Этак Антихрист назовет себя «другом Христа», иудей — христианина, папа — Антихриста, а Прудон — Ротшильда. Что же это выйдет? Мир разрушится, потеряет грани, связи; ибо потеряет отталкивания. Необходимые: ибо самые связи-то держатся через отталкивания. Но мир ничего, впрочем, не потеряет, ибо все они, от Философова до папы, именно только «назовут» себя, а дело останется, как есть: папа — враг Антихриста, а Антихрист — его враг, и Философов — враг плебса, а плебс — враг Философова. А «говоры» — как хотите.
Вот уж, поистине — речи, в которых «скука и томление духа» (Экклез.).
Не язык наш — убеждения наши, а сапоги наши — убеждения наши. Опорки, лапти, смазные, «от Вейса». Так и классифицируйте себя.
* * *
Русский «мечтатель» и существует для разговоров. Для чего же он существует. Не для дела же?
* * *
О Рылееве, который, — «какая бы ни была погода, — каждый день шел пешком утром, и молился у гробницы императора Александра II», — при коем был адъютантом. Он был обыкновенный человек, — и даже имел француженку из балета, с которой прожил всю жизнь. Чтó же его заставляло ходить? ктó заставлял? А мы даже о родителях своих, о детях (у нас — Надя на Смоленском) не ходим всю жизнь каждый день, и даже — каждую неделю, и — увы, увы — каждый месяц! Когда я услышал этот рассказ (Маслова?) в нашей редакции, — я был поражен и много лет вот не могу забыть его, все припоминаю. «Умерший падишах стоит меньше живой собаки», прочел я где-то в арабских сказках, и в смысле благополучия, выгоды умерший «освободитель» уже ничем ему (Рылееву) не мог быть полезен. Что же это за чувство и почему оно? Явно — это привязанность, память, благодарность. Отнесем 1/2 к благородству ходившего († около 1903 г., и по поводу смерти его и говорили в редакции): но 1/2 относится явно к Государю. Из этого вывод: явно, что Государи представляют собою не только «форму величия», существо «в мундире и тоге», но и что-то глубоко человеческое и высокочеловеческое, но чего мы не знаем по страшной удаленности от них, — потому, что нам, кроме «мундира», ничего и не показано. Все рассказы, напр., о Наполеоне III — антипатичны (т. е. он в них — антипатичен). Но он не был «урожденный», — и инстинкт выскочки уцепиться за полученную власть сорвал с него все величие, обаяние и правду. «Желал устроиться», — с императрицею и деточками. «Урожденный» не имеет этой нужды: вечно «признаваемый», совершенно не оспариваемый, он имеет то довольство и счастье, которое присуще было «тому первому счастливому», который звался Адамом. «От роду» около него растут райские яблоки, которых ему не надо даже доставать рукой. Это — психика совершенно вне нашей. Все в него влюблены; все он имеет; что пожелает — есть. Чего же ему пожелать? По естественной психологии — счастья людям, счастья всем. Когда мы «в празднике», когда нам удалась «любовь» — как мы раздаем счастье вокруг, не считая — кому, не считая — сколько. Поэтому психология «урожденного» есть естественно доброта: которая вдруг пропадает, когда он оспаривается. Поэтому не оспаривать Царя есть сущность царства, regni et régis.<> Поразительно, что все жестокие наши государи были именно «в споре»: Иван Грозный — с боярами и претендентами, Анна Иоанновна — с Верховным Советом, и тоже — по неясности своих прав; Екатерина II (при случае, — с Новиковым и прочее) тоже по смутности «вошествия на престол». Все это сейчас же замутняет существо и портит лицо. Поэтому «любить Царя» (просто и ясно) есть действительно существо дела в монархии и «первый долг гражданина»: не по лести и коленопреклонению, а потому, что иначе портится все дело, «кушанье не сварено», «вишню побил мороз», «ниву выколотил град». Что это всемирно и общечеловечно, — показывает то, до чего люди «в оппозиции» и «ниспровергающие», т. е. в претензии «на власть», рвущиеся к власти, — мирятся со всем, но уже очень подозрительно относятся к спокойнымвозражениям себе, спору с собой: а насмешек совершенно не переносят. Они отмели Страхова (критика), а Незлобина-Дьякова прокляли таким негодованием, которое в «литературной судьбе» равно «ссылке в каторгу». «Нельзя оскорблять величие оппозиции, ни — правды ее», на этом построена (у нас) вся литературная судьба 1/2 века, и около этого развился литературный карьеризм и азарт его. «Все хватают чины и ордена просто за верноподданические чувства» оппозиции и даже за грубую ей лесть. Такими «верноподданными», страстными и с пылом, были Писарев, Зайцев, Благосветлов: последний в жизни был невыразимый халуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали в «амурах» и деньгах, когда в его журнале писались «залихватские» семинарские статьи в духе: «все расшибем», «Пушкин — г…о». Но халуй ли, не халуй ли, а раз «сделал под козырек» и стоит «во фронте» перед оппозицией, — то ему все «прощено», забыто, получает «награды» рентами и чинами. Но что же это? Да это «придворный штат», уже готовый и сформированный, для будущей и ожидаемой власти, для les rois в лохмотьях. Обертываясь, мы усматриваем существо дела: «не будите нас от сновидений», «дайте нам сознать себя правыми,и вечно правыми, во всех случаях правыми, — и мы зальем вас счастьем»… «Скажите, признайте, полюбите в нас полубога: и мы будем даже лучше самого Бога!!» Хлыстовский элемент, элемент «живых христов» и «живых богородиц»… Вера Фигнер была явно революционной «богородицей», как и Екатерина Брешковская или Софья Перовская… «Иоанниты», всё «иоанниты» около «батюшки Иоанна Кронштадтского», которым на этот раз был Желябов. Когда раз в печати я сказал, что Желябов был дурак, то даже подобострастный Струве накинулся на меня с невероятной злобой, хотя у Вергежской он про революционеров говорил такие вещи, каких я себе никогда не позволял. «Но про себя думай, чтó знаешь — а на площади окажи усердие» («ура»): и Струве закричал на меня, потребовал устранения меня от прессы, просто за эти слова, что Желябов — дурак. «Его величество всегда умен» — в отношении Людовика XIV или — мечтаемого, призываемого, заранее славословимого Кромвеля. Обертывая все это и видишь: да это всемирная психология, всемирная потребность, всемирный фокус, что человек только в счастье и в самозабвении — подлинно благ, доброжелателен, «творит милость и правду». Ну хорошо: то, чем этого ожидать завтра, не лучше ли поклонитьсявчера? Чем рубить топором и строгать рубанком куклу — для внешнего глаза «куклу», а для сердца верующего икону, — отчего не поставить «в передний угол» ту, которую мы нашли у себя в доме, родившись?
И особенно нам, людям нижнего яруса, которые во власти не участвуем и не хотим участвовать, которые любим стихи и звезды, микроскоп и нумизматику, — совершенно явно мы должны «оставить все как есть» и не становиться «в оппозицию» к le roi à présent,<> в интересах le roi future,<> «Желябова № 1».
«Нам все равно»… Т. е. успокоимся и будем делать свои дела. Вот почему от «14-го декабря 1825 г. до сейчас» вся наша история есть отклонение в сторону, и просто совершилась ни для чего. «Зашли не в тот переулок» и никакого «дома не нашли», «вертайся назад», «в гости не попали».
* * *
* * *
Никакого желания спорить со Спенсером: а желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды и выдрать из них 1/2.
Поразительно, что, видев столько на сцене «старых чиновников Николаевского времени» (у Островского и друг.), русские пропустили, что Спенсер похож на всех их. А его «Синтетическая философия» повторяет разграфленный аккуратно на «отделения» и «столоначальничества» департамент. И весь он был только директор департамента, с претензиями на революцию.
В VII-м классе гимназии, читая его «О воспитании умственном, нравственном» и еще каком-то, я был (гимназистом!!) поражен глупостью автора, — и не глупостьюотдельных мыслей его, а — тона, так сказать — самой души авторской. Он с первой же страницы как бы читает лекцию какой-то глупой, воображаемой им мамаше, хотя я убежден, что все английские леди гораздо умнее его. Эту мамашу он наделяет всеми глупыми качествами, какие вообразил себе, т. е. какие есть у него и каких вовсе нет у англичанок. Ей он читает наставления, подняв кверху указательный перст. Меня все время (гимназистом!) душил вопрос: — «Как он смеет! Как онсмеет!» Еще ничего в то время не зная, я уголком глаза и, наконец, здравым смыслом (гимназиста!) видел, чувствовал, знал, что измученные и потрепанные матери все-таки страдают о своих детях, тогда как этот болван ни о чем не страдал, — и что они все-таки знают и видят самый образ ребенка, фигуру его, тогда как Спенсер (конечно, неженатый) видал детей только в «British Illustration», и что вообще он все «Умственное воспитание» сочиняет из головы, притом нисколько не остроумной. Напр.: «Не надо останавливать детей, — ибо они, неостановленные, пусть дойдут до последствий неверных своих мыслей и своих вредных желаний: и тогда, ощутя ошибку этих мыслей и боль от вреда — вернутся назад, и тогда это будет прочное воспитанием. И иллюстрирует, иллюстрирует с воображаемой глупой мамашей. «Напр., если ребенок тянется к огню, — то пусть и обожжет палец»… Сложнее этого ничего не лезло в его лошадиную голову. Но вот 8-летний мальчик начинает заниматься онанизмом, случайно испытав, пожав рукой или как, его приятность: чтó же, «мамаша» должна ждать, когда он к 20-ти годам «разочаруется»? Спенсер ничего не слыхал о пагубных привычках детей!! Конечно, дети в «Британской Иллюстрации» онанизмом не занимаются: но матери это знают и мучаются с этим и не знают, как найти средств. Да мое любимое занятие от 6-ти до 8-ми лет было следующее: подойдя к догорающей лежанке, т. е. когда 1/2 Дров — уже уголь и она вся пылает, раскалена и красна, — я, вытащив из-за пояса рубашонку (розовая с крапинками, ситцевая), устраивал парус. Именно — поддерживая зубами верхний край, я пальцами рук крепко держал нижние углы паруса и закрывал, почти вплотную, отверстие печки. Немедленно красивой дугой она втягивалась туда. Как сейчас, вижу ее: раскалена, и когда я отодвигался и парус, падая, касался груди и живота, — он жег кожу. Степень раскаленности и красота дуги меня и привлекали. Мне в голову не приходило, что она может сразу вся вспыхнуть, что я стоял на краю смерти. Я был уверен, что зажигается «всеот огня», а не от жару и что нельзя зажечь рубашку иначе, как «поднеся к ней зажженную спичку»: «такой есть один способ горения». И любил я всегда это делать, когда в комнате один бывал, в какой-то созерцательности. Однако от нетерпения уже и при мамаше начинал делать «первые шаги» паруса. Всегда усталая и не замечая нас, — она мне не объяснила опасности, если это увеличить. А по Спенсеру, «и не надо было объяснять», пока я сгорю. Но мамаша была без «h», а он написал 10 томов. Ну что с таким дураком делать, как не выдрать его за бакенбарды?!!
(после чтения утром газет).
* * *
Русские, как известно, во все умеют воплощаться. Однажды они воплотились в Дюма-fils. И поехал с чувством настоящего француза изучать Россию и странные русские нравы. Когда на границе спросили его фамилию, он ответил скромно:
— Боборыкин.
Чего хотел, тем и захлебнулся. Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за «Войну и мир», он сказал: «Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром». Но вместо «Будды и Шопенгауэра» получилось только 42 карточки, где он снят в 3/4, 1/2, en face, в профиль и, кажется, «с ног», сидя, стоя, лежа, в рубахе, кафтане и еще в чем-то, за плугом и верхом, в шапочке, шляпе и «просто так»… Нет, дьявол умеет смеяться над тем, кто ему (славе) продает свою душу.
— «Которую же карточку выбрать?», — говорят две курсистки и студент. Но покупают целых 3, заплатив за все 15 коп.
Sic transit gloria mundi.
Суть «нашего времени» — что оно все обращает в шаблон, схему и фразу. Проговорили великие мужи. Был Шопенгауэр: и «пессимизм» стал фразою. Был Ницше: и «Антихрист» его заговорил тысячею лошадиных челюстей. Слава Богу, что на это время Евангелие совсем перестало быть читаемо: случилось бы то же.
Из этих оглоблей никак не выскочишь.
— Вы хотите успеха?
— Сейчас. Мы вам изготовим шаблон.
— Да я хотел сердца. Я о душе думал.
— Извините. Ничего, кроме шаблона.
— Тогда не надо… Нет, я лучше уйду. И заберу свою бедность с собою.
(на той же визитной карточке Макаревского).
Отстаивай любовь свою ногтями, отстаивай любовь свою зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее против власти. Будь крепок любви — и Бог тебя благословит. Ибо любовь — корень жизни. А Бог есть жизнь.
(на Волково).
Все женские учебные заведения готовят в удачном случае монахинь, в неудачном — проституток.
«Жена» и «мать» в голову не приходят.
Может быть, народ наш и плох, но он — наш, наш народ, и это решает все.
От «своего» куда уйти? Вне «своего» — чужое. Самым этим словом решается все. Попробуйте пожить «на чужой стороне», попробуйте жить «с чужими людьми». «Лучше есть краюшку хлеба у себя дома, чем пироги — из чужих рук».
В Российской философии была фигура, которая не вписывалась ни в рамки религиозной философии, ни, уж тем более, в социализм. Это был Василий Васильевич Розанов.
Какие имена в первую очередь ассоциируется у нас с «русской философией»? Соловьев, Бердяев, Флоренский, Герцен (впрочем, здесь я могу говорить только за себя)… То есть, при разговоре об отечественной философии мы очень часто используем стереотип, который гласит, что философ в России является либо религиозным деятелем, либо социалистом.
Но в Российской философии была фигура, которая не вписывалась ни в рамки религиозной философии, ни, уж тем более, в социализм. Это был Василий Васильевич Розанов. Для меня он сам – явление в русской философии, отдельное от всех, не принадлежащее ни к какому течению. Возможно, именно Розанов должен олицетворять Русскую философию, поскольку, не принадлежа ни к одному течению, он впитал основные для себя идеи и из религиозной философии, и из почвенничества, и из, как он сам это называл, «противоборства властям, которое пережил в гимназические годы». Розанов выработал собственный стиль, а «стиль - это душа вещей», как он писал сам.
Розанов, кроме того, интересен еще тем, что он не был устоявшимся раз и навсегда мыслителем, который всю свою научную карьеру отстаивает какие-то свои убеждения и мысли, или развивает их. Безусловно, Розанов и этим занимался, но он тем и интересен, что свои идеи он постоянно обновлял или подвергал критике. На один и тот же предмет в его творчестве можно найти несколько точек зрения, порой диаметрально противоположных. Поскольку Розанов был писателем живым, то есть таким, который говорит только от своего имени и в любых текстах всячески подчеркивает субъективность высказанного, то изучать его творчество вдвойне приятно, поскольку после двух страниц произведения немедленно создается ощущение диалога с непростым, своеобразным и обаятельным собеседником. Творчество Розанова имеет яркую черту – оно никогда не есть что-то отстраненное, индифферентное к предмету своего исследования или описания. Розанов всегда страстен в своих высказываниях. Достаточно вспомнить одну его краткую заметку в «Опавших листьях», касающуюся русского социализма: «смазали хвастунишку по морде - вот вся «История»…».
Как уже упоминалось, яркая черта в работах Розанова это подчеркнутая субъективность повествования. Своим письмом, своим стилем он постоянно выделяет самостоятельность, независимость своих идей. Дело в том, что его творчество, впрочем, как творчество любого писателя, всегда является откликом на какое-либо событие, воплощением конкретного замысла, такого как, например рефлексия на тему пола или церкви. Такова публицистика Розанова. Во втором «коробе» «Опавших листьев» есть место, где он специально говорит, «если бы», об издании своих статей, появлявшихся ранее в газетах и журналах, в отдельные книги. Таких «тематических» книг он выделил 16 штук.
Но истинное творчество для Розанова - «непричесанная мысль». То есть та мысль, которая рождается не в связи с чем-то, не в рамках какой-то концептуальной конструкции, а приходит сама собой. Сам он описывал процесс появления таких мыслей таким образом: «…Конку трясет, меня трясет, мозг трясется, и из мозга вытрясаются мысли» (Розанов В. «Опавшие листья. Короб превый» – СПб, Издательский дом Кристалл, 2011. С.111). Мысли эти есть сама суть творческого начала Розанова: «С выпученными глазами и постоянно облизывающийся - вот я Не нравится? » Вот это - та самая свобода и оригинальность. Не секрет, что у Розанова, как и у всякого мыслителя или писателя, творчество зависело от жизни, от случившихся с ним событий. В его публицистической биографии было всякое: и злые разгромные статьи, и случавшийся ненужный фанатизм в превознесении некоторых идей. Розанов в разные периоды своей биографии был «и юдаистом и черносотенником», по его выражению. «Опавшие листья» представляют собой тот сборник мыслей, где автор не таит от себя ничего и становится самим собой. Это не тот род литературы, где надо постоянно показывать свою принадлежность к каким-то политическим движениям. Высказывание мысли здесь не носит никакого специального, умышленного характера. Мысль здесь – сам автор, его субъектность, перенесенная на бумагу.
Надо сказать, что в своих работах, когда он был увлечен какой-нибудь мыслью, и высказывания делал с целью подтвердить ее, субъективности ему было не занимать. Даже при фанатичной критике евреев в одной из статей, в «Опавших листьях», свободных от влияний, «розановский» субъективный стиль расцветает, что называется, «буйным цветом».
«Опавшие листья» – произведение позднего Розанова. То есть того Розанова, который и называется «Василием Васильевичем Розановым, русским философом», уже сформировавшим свой неповторимый стиль построения философских работ. Того Розанова, которого принято называть «классическим». Ему было 57 лет, когда он написал этот на первый взгляд сборник мыслей, оказывающийся после прочтения целостным произведением. Он уже сформировал нужные (ему), представления, «переболел, перестрадал» многим; всем, что помогло ему прийти к своему пониманию вещей.
Существует традиционное представление, что «сформировавшийся» писатель имеет строгие понятия и убеждения, которые его и делают, собственно, сформировавшимся. Отстаивая эти убеждения, писатель обретает оригинальный стиль. Примерами могут послужить Толстой и, например, Салтыков-Щедрин. Относится это, безусловно, и к Розанову, но, как всегда для этого автора, с некоторым исключением. «Сформированность» Розанова заключается в том, что мысли его представляют собой внутреннее содержание, свободное от страсти к отстаиванию. «Классический» Розанов - мыслитель, плетущий «узор мысли» в уединении своей души. Он не преследует целей воспитания читающей публики или укрепления в обществе собственных идей. Опять же точнее, чем сам мыслитель на эту тему не выскажешься: «Какого бы влияния я хотел писательством? Унежить душу… - А «убеждения»? Ровно наплевать».
Розанов во многих местах противоречит себе самому. Это можно назвать одной из отличительных черт его творчества. Он много раз противоречил себе статьями, отстаивая противоположные идеи через достаточно короткое время между публикациями. Даже в самих произведениях встречаются у него диаметрально противоположные мысли. Мне кажется, что это надо воспринимать исключительно как следствие авторского стиля. А стиль его стоит на фундаменте движений души, на которые влияют в том числе и эмоции. Мысли, приходящие к Розанову, безусловно, разные, вплоть до противоречия, но это его мысли, это часть движений души, от которых он не хотел и не мог отказываться.
Продолжая разговор о «розановском» стиле, необходимо сказать о, как мне кажется, главной его составляющей. Если в своих статьях Розанов обращается к большинству или некоему множеству читателей, то есть он изначально говорит вещи, предназначенные для многих, то в произведениях типа «Опавших листьев» он всегда обращается только к одному читателю, к собеседнику. И это очень понятно: меняется тема разговора, стиль подачи идей и вместе с этим меняется и воспринимающий субъект.
Ведь те же «Опавшие листья» это пример того творчества, когда принято говорить, что автор делится с читателем своими мыслями и, самое главное, чувствами. Именно делится, а не доводит до сведения и не дает «информацию к размышлению». Это произведение, на мой взгляд, может быть правильно понято именно так, как хотел этого Розанов, только в одном виде – исключительно индивидуально. Речь идет не об основных философских воззрениях Розанова, которые кристальным образом видны в этом тексте, а об их восприятии читателем. В конце концов любой «интимный» (по определению самого Розанова) текст можно «разложить по полочкам», выделив основные и второстепенные мысли. Но «Опавшие листья» - это, прежде всего, очень личное обращение к читателю-собеседнику, и уже потом собрание центральных мыслей философа. Сложно говорить, но иногда кажется, что Розанов действительно религиозный философ, а не светский как мы уже упоминали ранее. Если в более ранних работах он мог вполне спокойно критиковать церковь и ее атрибуты, то в «Опавших листьях» Церковь и Вера - непоколебимые и даже единственные главные категории его творчества. Подспудно он и сам объясняет такой переход: «Чем старее дерево, тем больше падает с него листьев». Розанов еще сам признается, что в юношеские годы у него было чувство некоторого пренебрежения к «церковникам», как он их называет, и тогда он «даже не протягивал им руки». Розанов изначально был связан с церковью некой сакральной связью. Как бы он не сторонился ее в молодые годы, по большому счету, его отношение к ней не менялось. Сакральная связь просто трансформировалась за период его творчества, оставив суть свою прежней.
Насколько это видно из текста «Опавших листьев», и как это представляется мне, Розанов был истинным «сыном церкви» и ее служителем, гораздо глубже чувствовавшим суть ее, нежели иные священники. В те времена было много споров, особенно о церкви; и было много защитников церкви и церковных философов как Флоренский или Булгаков. Истинных же служителей среди них было мало. О Розанове в таком качестве речи и не было: это была противоречивая фигура, от которой можно было ждать разных слов, причем не всегда лицеприятных. «…Окончательно утвердилась мысль в печати, что я – Передонов или – Смердяков. Merci.» (Розанов В. Опавшие листья. Короб второй.– СПб, Издательский дом Кристалл,2001. С.107). Но тут была совсем другая история. Когда «все человечество отступилось от церкви. И нарекло ее дурным именем. И прокляло ее» – появился В.В. Розанов и «поцеловал церкви руку, как целуют руку матери, несмотря ни на что, п.ч. она все-таки мать».
При ближайшем рассмотрении оказывается, что Розанов не просто критик или безоговорочный почитатель церкви. Как у истинного «сына церкви» сакральная связь Розанова с ней была искренней или сердечной. Сердечная связь находит «главный» серединный путь к церкви. Как «дитя церкви» Розанов относился ко всем ее проявлениям ревностно, как к части себя самого.
Идя путем сердца, Розанов не мог принимать всего в церкви. Его критика – критика скорее любящего сына, нежели постороннего озлобленного субъекта. Если Розанов и высказывает критические суждения о церкви, то это происходит, как мне кажется, от великой любви, когда даже маленькие недостатки вызывают болезненные реакции. Например, Розанов упрекает современную ему церковь в том, что она избрала противоестественные способы ведения полемики в светском обществе. Как известно, Василий Васильевич скептически относился к религиозным или церковным газетам и листкам. Церковь, по его мнению, уже имеет все необходимое, нужное слово, т.е Евангелие, для воздействия на человеческие души. Газеты – исключительно мирская вещь, они от человека, а не от Бога. «…Церковь не печатна или «старо-печатна». Зачем слово церкви? Слово ее в литургии, в молитвах. Церковь должна быть безмолвна и деятельна. Провел рукой по волосам. Кающегося и изнеможенного обнял бы. Вот «слово» церкви. Зачем говорить? Говорят пусть литераторы. И все церковные журналы и газеты – прах и тление…» (Там же. С.191).
Возвращаясь к разговору об отношении Розанова к церкви в молодые годы, необходимо, на мой взгляд, сказать еще такую вещь. Раньше в нем говорило «религиозное высокомерие», «я оценивал церковь, как постороннее себе, и не чувствовал нужды ее в себе, потому что был «С Богом»». Так почему же Розанов превратился из просто «религиозного человека» в приверженца церкви? Может быть, разгадка в этих строках: «Пришло время «приложиться к отцам». Уйти «в мать землю». И чувство церкви пробудилось». Я думаю, что дело здесь не совсем в возрасте, а скорее в страдании, которое сопровождает человеческую жизнь и излечить которое может только религия и церковь. «Когда не до язычества». Речь идет о более общих вещах, чем финал жизни. Ощущения конца жизни лишь усиливают основной эффект. Центральное же понятие у Розанова в этом вопросе, как мне кажется, – это подспудная, настоящая потребность в церкви. Потребность, присутствующая всю жизнь и ярко проявляющаяся в моменты кризиса.
По Розанову, церковь базируется на человеческой потребности: «Церковь основывается на «НУЖНО». Это совсем не культурное воздействие. Не просвещение народа». Все эти категории пройдут. «Просвещение» можно взять у нигилистов, «культурное воздействие» дадут и жиды» (Там же. С.187).
Для Розанова это «НУЖНО» было прямо-таки физически ощутимым. Но нельзя отрицать и влияние возраста: с ним приходит опыт, а, будучи уже опытным и мудрым, Розанов не понимает и критикует бытность свою «не церковника, но верующего». «…Церковь родила нам Христа, и (тогда) как же сметь любя Христа, ополчаться на церковь?» (Там же. С.33). И там же Розанов формулирует основную свою мысль на сей счет: «Действительно, Церковь может сказать: …Я спасла Евангелие для человечества, как же теперь, вырывая его из моих рук, вы смеете говорить о Христе помимо и обходя церковь. Я дала человечеству: ну, а нужно ли Евангелие больным, убогим, страждущим, томящим, нужно ли оно сегодня, будет ли нужно завтра – об этом уже не вам решать». Таким образом, разъединяя церковь и Христа в молодости, Розанов в зрелые годы не только их соединяет, но даже не мыслит одно без другого. Тем не менее, Розанов был бы не Розанов если бы просто «сдался» в этом вопросе. Признавая неотделимость Церкви и Христа, он жестко критикует духовенство. «Попы - медное войско около Христа. Его слезы и страдания - ни капли в них. Отроду я не видел ни одного заплакавшего попа. Даже «некогда»; все «должность» и «служба». Как «воины» они и защищают Христа, но в каком-то отношении и погубляют его тайну и главное». Несмотря на такое резкое заявление Розанов не до конца «уничтожает» духовенство и говорит тех, кто, по его мнению, является настоящим врагом духовности. «Но, однако, при всех порицаниях как страшно остаться без попов. Они содержат вечную возможность слез: позитивизм не содержит самой возможности, обещания. Недостаток слез у попа и есть недостаток; у позитивистов – просто нет их, и это не есть нисколько в позитивизме «недостаток». Вот в чем колоссальная разница» (Там же. С.104). Но больше всего в этом отрывке поражает даже не суть, так сказать, основного текста, а та приписка, которую он оставил после него. Розанов очень часто, практически всегда оставлял в тексте «Опавших листьев» после мыслей маленькие сноски-комментарии, говорящие о самой мысли иногда больше, чем она могла бы сама сказать о себе. Комментарий к этому отрывку звучит так: «все-таки попы мне всего милее на свете. Приписка через? года». Что же это значит? Какое в конечном итоге оставил он мнение? А значит это, на мой взгляд, что писал Василий Васильевич Розанов. Это его стиль: сначала в красках высказывается мнение о предмете, а затем в не менее ярких тонах он сообщает другую свою точку зрения о нем.
Говоря же серьезно, Розанов, признавая церковь, не мог не признавать главную ее составляющую часть – духовенство. Его отношение к ним в концентрированной форме очень хорошо выражено в уже приводившихся словах: «При всех порицаниях, как страшно остаться без попов». Будучи «сыном церкви», в конечном итоге он признавал все ее следствия, ради самой церкви он готов был смириться с духовенством (особенно если учитывать, что Розанов не считал их врагами в сравнении с позитивистами и социалистами). «Бог с вами: прощаю вашу каменность, извиняю все глупое у вас… Все по слабости человеческой, может быть временной. Фарисеи вы… но сидите-то все-таки на «седалище Моисеевом»: и нет еще такого седалища в мире, как у вас. Был некто, кто, обратив внимание на ваше фарисейство, столкнул вас и с вами вместе и самое «седалище»… Я наоборот: ради значения «седалища», которое нечем заменить, закрываю глаза на вас и кладу голову к подножию «седалища»… (Розанов В. Опавшие листья. Короб первый.– СПб, Издательский дом Кристалл, 2001. С.37).
Выше мы краешком затронули тему Евангелия. У Розанова в «Опавших листьях» (и не только) присутствует много размышлений о Библии. Церковь, как хранительница Евангелия, в одном его рассуждении должна оберегать книгу от ненуждающихся: «В Тайну, в Тайну это слово… замуровать в стены, в погреб, никому не показывать до 40 лет, когда начнутся вот страдания, вот унижения, вот неудача жизни: и тогда подводить «жаждущего и алчущего» к погребу и оттуда показывать, на золотом листке, вдали: Блаженны нищие духом!..». По сути Розанов здесь опять возвращается к вопросу о человеческой потребности, на которой стоит церковь. Евангелие читается правильно, т.е. в соответствии с Великим Замыслом, по Розанову, во время «страдания, унижения и неудачи» человека, когда он жаждет поддержки утешения. Чтение Евангелия без потребности, а еще хуже без осознания написанного – для Розанова крайне вредное занятие. «Боже мой: да ведь это и сказано «нищим духом», еще – никому, и никому – непонятно, для всех это «смех и глупость», и сила слова этого только и открывается в 40 лет, когда жизнь прожита. Зачем же это Ваське с растопыренными ногами, это «метание бисера перед свиньями» (Там же. С.149).
Роль Церкви для Розанова состоит в том, что она хранит Евангелие, всю свою историю обучая людей читать Великую Книгу. Церковь вместе с тем еще сопровождает человека, обучая его общению с Богом. Церковь выполняет конкретную наставляющую работу. Формирование правильного поведения, духовного поведения человека лежит на плечах церкви. «Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи помилуй» (слыхала в церкви, да и «сама собой» скажет) и положила поклон в землю. Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит». Церковь сделала. Поняла. Сумела. Церковь научила этому всех. Осанна Церкви - осанна как Христу - «благословенная Грядущая во имя Господне» (Розанов В. Опавшие листья. Короб второй.– СПб, Издательский дом Кристалл, 2001. С.165).
При таком трепетном отношении к церкви, Розанов, между тем, связывал один из самых страшных для него изъянов человечества – пошлость – с именем церкви. У него есть одно очень интересное размышление на эту тему. Он очень точно, как мне кажется, подметил такую вещь: в мире всегда присутствует определенная «доза» пошлости. Пошлость сопровождает человечество и принимает лишь разные формы. Под пошлостью Розанов понимает скорее лицемерие, которое, по сути, есть лишь частный случай пошлости. Лицемерие у него бывает разных видов.
Прагматизм, который есть сам целиком лицемерие перед Святым Духом, для Розанова страшная вещь. Это настоящий враг, с которым Розанов боролся всегда. Если к некоторым вопросам он мог относиться с известной долей терпимости и даже находить другую точку зрения на данный предмет, то с прагматизмом и еще некоторыми вопросами он даже не хотел видеть общей точки соприкосновения. И даже при таком положении дел, обнаруживается у него вещь еще страшнее в своем лицемерии, чем прагматизм. На самом деле, нет ничего страшнее зла, прикидывающегося добром. И нет страшнее лицемерия церковного. Лицемерие, облачающееся в церковные одежды, жутко само по себе, так как использует церковные средства, созданные для привнесения божественного в человеческие души, на благо лишь человеческих страстей. «Ну, – пройдет демократическая пошлость, и настанет аристократическая. О, как ужасна, еще ужаснее!! И пройдет позитивная пошлость, и настанет христианская. О, как она чудовищна!!! Эти хроменькие-то, это убогенькие-то, с глазами гиен…О! О! О! О! «По-христиански» заплачут. Ой! Ой! Ой! Ой!..» (Там же. С.44). Из этого отрывка видно, что христианское лицемерие является последним в ряду других лицемерий, рангом поменьше, и есть, безусловно, что-то вроде вестника «светопреставления».
Важный вопрос в размышлениях Розанова о церкви и религии – «естественное христианство». Можно было бы предположить, что Розанов, со своим восхищенным отношением к церкви, будет говорить о Христианстве, как неотъемлемой части человеческой натуры. Это было бы слишком узко и поверхностно для Розанова, который на данный счет имеет, как всегда, самобытную точку зрения.
По Розанову не существует «абсолютных» христиан, или «абсолютных» язычников – эти понятия неадекватны человеческой природе. Человек существо достаточно сложное и невозможно «засунуть» его в рамки только христианской морали или только чистого прагматизма. Человеческая природа такова, что христианство или язычество природно присутствуют в каждом индивиде. Здесь следует сделать некоторое отступление и сказать следующую вещь: Розанов – философ не Разума, а Чувств. Для него всегда важнее то, что чувствует человек, нежели то, что он думает. При чем даже чувства не совсем центральное понятие для него, главными для него являются дела человека. Человек, грубо говоря, может чувствовать что угодно, а его поступки будут определять его духовный облик. «Не язык наш – убеждения наши, а сапоги наши – убеждения наши» (Розанов В. Опавшие листья. Короб первый.– СПб, Издательский дом Кристалл, 2001. С.38). И все же чувственное начало доминирует в человеке у Розанова над рациональным. Розанов всегда прежде всего отслеживает чувственные, эмоциональные мотивации поведения человека, он скептически относится к ratio. Между прочим, это ярко характеризует его, как православного религиозного философа. Для всех православных мыслителей отличительной чертой является устремленность к духу, к движениям души, к Божьему Откровению. Упор делается на все духовное в человеке, на то, что от Бога. Разум же – исключительно человеческая категория, редко что-то имеющая общего с духовной стороной существования. Если на Западе доминируют представители «Философии ума», то в России – оплот «Философии сердца». А Розанов – один из главных ее адептов. Как истинный христианин, Розанов искал, прежде всего, духовные начала в каждом человеческом поступке и рассматривал все поведение в целом через призму, заметим еще раз, духовности, а не разума.
Возвращаясь к разговору о «естественном христианстве», учитывая отступление, можно сказать следующее. Розанов рассматривает естественное «состояние» человеческой натуры с духовных позиций, то есть он исключает «рациональный» способ понимания людей, когда можно строго определить, сколько в людях «христианства», сколько «язычества» и каковы люди изначально. Розанов утверждает: человек изначально, по своей природе, несет в себе и христианство и язычество. Они влиты в него в равной мере. Когда человек находится в радости, когда он силен – тогда он язычник. Когда же наступает время трудностей, страха, страдания и слабости, человек – безусловно христианин. «Две эти категории, кажется, извечны и первоначальны. Они не принесены «к нам», они – «из нас». Они – мы сами в разных состояниях».
В принципе, формула для понимания меры христианства и язычества в человеке такова: «В грусти человек – естественный христианин. В счастье человек – естественный язычник». Естественно, для Розанова главнее христианское «состояние». Языческая составляющая предполагает самостоятельную силу человека, его оторванность от Бога, ненадобность его помощи. Человек в таком состоянии не хочет быть зависимым от кого бы то ни было. Собственно, отсутствие чувства зависимости от Бога – и есть язычество для Розанова. Христианином человек становится при встрече с трудностями, которые он не в силах преодолеть сам. «Вот Юпитеру никак не скажешь: «Облегчи!». И когда по человечеству прошла великая тоска: «Облегчи», – явился Христос. В «облегчи! Избави! Спаси!» – в муке человечества есть что-то более важное, черное, глубокое, может быть и страшное, и зловещее, но, несомненно, и более глубокое, чем во всех радостях» (Розанов В. Опавшие листья. Короб второй.– СПб, Издательский дом Кристалл, 2001. С.26). А почему же в муке присутствует что-то глубокое, а не в радости человеческой? Испытывая страдания, человек преображается, так как трудности или боль, которые человек не может преодолеть сам, заставляют его осмыслить адекватно свои возможности. Осознавая себя слабым, человек инстинктивно обращается к тому, кто подсознательно для него сильнее, то есть к Богу. Итак, для Розанова более ценна мука человека, чем радость, ибо в муке открывается глубина человека, мука заставляет преображаться душой, наконец, (наверное, главное для Розанова) мука обращает человека к Богу. «Вот победа христианства. Это победа именно над позитивизмом. Весь античный мир, при всей прелести, был все-таки позитивен. Но болезнь прорвала позитивизм, испорошила его: «Хочу чуда, Боже, дай чуда!». Этот прорыв и есть Христос. Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет – никогда не увидит Христа. А кто плачет – увидит Его непременно» (Там же. С.26).
Слезы для Розанова в этом отрывке, конечно же, не настоящие, натуральные слезы, а символ. Под слезами понимается человеческая мука вообще, в концентрированном виде. Образуется прямая зависимость «слезы – Христос». Получается следующее: чем больше человек страдал, тем лучше ему открылся Христос. Розанов рассуждает о природе страданий и приходит к выводу, что принимают их люди по-разному. «Одни при всяческих несчастиях не плачут. Другие плачут и при не очень больших» (Там же. С.26-27). Те, кто не плачет никогда Розанова мало интересуют. Поскольку отсутствие слез для него – отсутствие контакта с Богом, отсутствие Христа в человеке, то автоматически такие «сверхлюди» переходят в «позитивистский» разряд, а к позитивистам Розанов, как известно, относился крайне негативно. Розанов целиком погружен в исследование людей плачущих. Такое исследование подспудно подразумевает вопрос: «Кто из людей страдает больше всего?». Ответ на такой вопрос у Розанова находится: «Женская душа вся на слезах стоит» (Там же. С.27). Женщина для Розанова (во всех его рассуждениях и работах) всегда является образом особого мученичества и чистоты. Особенно ярко это видно в его размышлениях о поле и семье, но об этом будет сказано ниже. Здесь же упомянем лишь то, что для Розанов мыслит женщину минимум в двух измерениях: духовном и телесном. И в обоих измерениях женщина предстает как центральный элемент. Мысли о природе страдания естественным образом выдвигают женщину на первый план как «идеального» страдающего субъекта.
Женщина в этих размышлениях Розанова становится неким олицетворением ситуаций, когда человек страдает и обращается к Богу. Розанов как будто вопрошает: «Если кто-то по-настоящему и страдает, разве не женщина это в первую очередь?». «Все «Авраамы» плодущие не стоят плачущей женщины» (Там же. С.27). И все же женщина, несмотря даже на центральную роль свою в страдании человеческом, является лишь только частью этого человеческого рода. Поэтому она может лишь от части «олицетворять» страдание человека. Тем более что для Розанова не важно само страдание, а важно то, к чему это страдание приводит. Рядом со страданием всегда находится фигура Христа. Поэтому – «Да, это категория вечная. И христианство – вечно» (Там же. С.27). С другой стороны, почему образ женщины очень хорошо подходит для описания «слез человеческих»? Происходит это из-за того, что, как мне кажется, что женщина всегда приходит к Христу, тогда как многие мужчины становятся «позитивистами». «Женская душа - другая, чем мужская («мужланы») (Там же. С.27). Страдание для Розанова всегда должно приводить к Христу, так как если и можно найти нечто положительное в страдании, так это только преображение человека в его стремлении к Богу. Розанов говорит о естественном христианстве и язычестве как о временнЫх отрезках в жизни человека. Введение им категории времени в этих рассуждениях было, на мой взгляд, достаточно предсказуемым. Язычество для него олицетворяется с детством, с периодом, из которого надо просто вырасти. Но и здесь он делает резкое замечание: «Могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и навсегда – здоровым: мог бы» (Там же). То есть, Розанов не отвергает природные начала в человеке, признавая за ним право на возвращение к язычеству, но, разумеется, с известной поправкой, что в страдании человек будет с Христом. Как мы уже упоминали, Розанов считает язычество примитивнее христианства, ибо христианство позволяет человеку больше понять свою натуру. Язычество как бы ограничивает человека его независимостью. Христианство призвано сломать эту ограниченность. «Не в этом ли родник, что мы умираем и болеем: т.е. не потому ли и для того ли, что бы всем открылся Христос. Чтобы человек не остался без Христа» (Там же. С.27). Интересно обратить внимание на такую мысль: Розанов говорит о христианстве, которое возникает только в страданиях и муке людской, но, вроде бы, не упоминает случаи, когда можно прийти к христианству, не страдая. Ранее мы уже затрагивали эту проблему. Для Розанова очень важно понятие своевременности событий и душевных движений. Истинное христианство для него то, которое является, что называется, «выстраданным». Розанов говорит о становлении духовности, в понимании его как некоего логично развивающегося процесса. Человек, в обретении Бога, проходит несколько стадий духовного развития. По какому принципу происходит этот процесс? Поскольку Розанов, как уже не раз говорилось, философ христианский, то и мыслит он и расставляет приоритеты (иногда мне кажется, что делает он это даже не задумываясь, то есть идеи церкви скрыты в его сознании изначально) в соответствии с христианским учением. Для христианства одним из центральных моментов является приоритет духовного над телесным. Руководствуясь как раз этим принципом, Розанов размышляет о духовной эволюции человека в частности, и человечества вообще. Здесь уместно, как мне кажется, будет построить некие «триады» духовного развития, чтобы продемонстрировать, как Розанов понимал его. Итак, раннее утро, практически еще ночь человеческого сознания, идет в связке с детством и является периодом язычества в человеческом развитии. Этот период характеризуется чистой телесностью, радостью, не омраченной никаким страданием и, как уже упоминалось, ограниченностью, как следствием «телесной свободы». «Присуще счастливому быть язычником, как солнцу – светить, растению – быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным. Но он вырастает. И я вырос» (Там же. С.27). Далее в процессе духовного развития идет «юдаизм», как его называет Розанов. «Юдаизм» по-разному описывается им, и в разных текстах можно встретить сравнения его как с «полднем», так и с «утром». Юдаизм ассоциируется с юношеством. Для Розанова иудаизм находится на достаточно далеком расстоянии от язычества, но все же, это не последняя стадия духовной эволюции. Дело в том, что иудаизм в его видении – синтез язычества и конечного этапа развития – христианства. Это некий переходный этап: в иудаизме на первом плане уже не телесность, а душа, но говорить о полном «попрании плоти» в иудаизме было бы, по меньшей мере, глупо. Телесность, вопросы пола, кровь – эти темы в иудаизме основные, наряду с проблемой обретения Бога. Иудаизм – смесь языческих инстинктов и предхристианского, одухотворенного мироощущения. Розанов на протяжении всего своего творчества решал для себя вопросы об иудаизме и евреях; не избежал крайностей в своих размышлениях: у него были периоды крайнего увлечения идеями и постулатами иудаизма, и так же случалось, что Розанов яро критиковал и иудаизм, и евреев, чуть ли не присоединяясь к черносотенцам. На одном примере «Опавших листьев», одной книги, можно удостовериться в сказанном. Оценки, которые он дает евреям, ярко разнятся по своей сути уже из-за того, что в одних отрывках он называет их «жидами», а в других – «иудеями». Все же, мне кажется, несмотря на резкие перепады в оценках, отношение Розанова к иудеям ко времени «Опавших листьев» уже более-менее стало «ровным». Он признает сущностное отличие и дистанцированность язычества от иудаизма, но, поскольку концепция духовного развития создавалась при заранее известной ее последней ступени (христианство), Розанов не может оставить «юдаизму» «первое место». Для него христианство – логически продолженный иудаизм. Логически продолженный в смысле удаления от язычества, то есть от телесности. Христианство – это зрелость человека, «вечер» – так всегда называет его Розанов. Христианство – последняя стадия развития в духовной эволюции человека и человечества. Эта эволюция, по Розанову, абсолютно логична, в ней нет противоречий, и все религии стоят на своих ступенях. Основная же цель данного развития должна быть понята, по Розанову, «как постепенное сжимание материи до плотности «металла» и до «один пар несется»». То есть, главным критерием «усложнения» религий и духовного преображения человека является все больший и больший отход от материального измерения и углубление в проблемы души, в поисках Бога.
Прежде чем завершить статью, необходимо осветить один очень важный вопрос в проблематике «Розанов о вере». Разумеется, центральный вопрос в ней звучит так: Какова главная идея христианства для Розанова? Впрочем, ответ на этот вопрос будет не так уж и сложен. Для Розанова главная идея христианства в бессмертии души. Но Розанов – философ, который задает вопросы не категории «что?», а категории «как?». Поэтому главней для него не вопрос бессмертия души, а то, каким образом душа становится бессмертной, а еще точнее – что делает ее бессмертной. Тут, как всегда, необходимо сделать небольшое отступление. Розанов не утверждает напрямую, что он постиг главный вопрос христианства. Он, во-первых, говорит только о своем понимании данного вопроса, а во-вторых, не постулирует свое понимание, а сообщает о том, что «может быть, даже и нет идеи бессмертия души, но есть чувство бессмертия души…» (Розанов В. Опавшие листья. Короб первый.– СПб, Издательский дом Кристалл, 2001. С.73). Именно чувство для него и важнее, как мы это выяснили ранее. Интуитивное ощущение, почти догадка для Розанова уже есть понимание. Ибо напрямую связывается с Божьим озарением. А чувство бессмертия души проистекает из главного для христиан чувства – любви. Именно любовь есть источник и бессмертия души, и условие спасения, и то, что крепче материального мира. Любовь для Розанова, бесспорно, – источник духовности и религиозного чувства. «Нежная-то идея и переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку «плачется» при одной угрозе «вечною разлукою» – это никогда не порвется, не истощится. Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно – паутина. Истинное железо - слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится - одно благородное. Им и живите» (Там же. С.78).
Хохлов А. В. София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии
«С выпученными глазами и облизывающийся - вот я. Некрасиво? Чтó делать!». Таким предстает перед нами философ Василий Васильевич Розанов, автор провокационного сочинения-эксперимента «Опавшие листья», жанр которого можно определить, как… Дневник? Записки? Все эти определения не вполне подходят. Попробуем разобраться.
Первые издания книг «Уединенное» (1912), «Опавшие листья. Короб первый», «Опавшие листья. Короб второй и последний» (1913-1915), представляющих собой трилогию, были восприняты современниками с удивлением и недоумением. Ни одного положительного отзыва в печати. И это при том, что Розанова хорошо знали по его философским трудам. Кроме того, читающая публика ко времени выхода сочинений Розанова уже пережила натиск символизма, господствовавшего в литературе в первое десятилетие XX века. Большинство произведений этого направления до сих пор поражают нас, современных читателей, своей интимностью и необычностью формы (сам Розанов, кстати, решительно отказывался называться «символистом», хотя бунтарский дух некоторых течений Серебряного века прочно вплетен в строки его произведений).
От системы к хаосу: творческий путь Розанова
Ко времени публикации «Опавших листьев» философ и писатель Василий Розанов прошел тернистый творческий путь. После окончания историко-филологического факультета молодого человека распределили в глухой провинциальный городок в качестве преподавателя гимназии. Это давало ему возможность заниматься свободным творчеством, уделяя при этом много времени философии и публицистике. Его первая книга «О понимании», которая должна была представлять собой, по мысли Розанова, фундаментальный теоретический философский труд, успеха не имела.
Религиозность теперь не исполнение долга, а само человеческое бытие.
Ее просто не заметили. Обратили внимание на Розанова только в 1891 году, после выхода литературно-философского этюда «Легенда о Великом инквизиторе». Во-первых, философские размышления приняли здесь более органичную форму - публицистическую, что значительно облегчило восприятие текста широкой публикой. Во-вторых, сближение литературы и философии произошло и на тематическом уровне (что традиционно для русской философии, в принципе) - Розанов обратился к творчеству мэтра Ф.М. Достоевского.
Здесь же обозначилась и магистральная тема дальнейших философских исканий: осмысление фигуры Христа. Розанов становится всецело религиозным мыслителем, причем православного толка, однако впоследствии он отказывается от четких схем и выдвигает другое понимание христианства и веры. Для философа божественное начало - в быту, в обыденности (что необычно, так как быт и обыденность порицались философскими учениями, начиная с эпохи Просвещения). Розанов был уверен в том, что уютность, домашность (семейственность) церкви и Бога - то, что питает человека в обычной жизни. Отсюда и иная религиозность, и другое понимание места человека в этой системе. Религиозность теперь не исполнение долга, а само человеческое бытие. Бог - это «моя жизнь», как и жизнь любого человека, считал Розанов. Человек становится ключом к пониманию абсолютно всего в мире. И это не преувеличение. Вместо теоретизирования различных процессов извне (не принимая во внимание человеческую сущность) Розанов утверждает возможность решения философских проблем с помощью постижения природы человека. Этот подход он пытается воплотить в «Опавших листьях», выбрав для анализа… Василия Васильевича Розанова. Потому что себя он знал, как ему казалось, неизмеримо лучше других людей: «Собственно мы хорошо знаем - единственно себя. О всем прочем - догадываемся, спрашиваем. Но если единственная “открывшаяся действительность” есть “я”, то очевидно и рассказывай об “я” (если сумеешь и сможешь)».
Форма книги
«Опавшие листья» - текстовый эксперимент. Об этом произведении сам Розанов писал: «Больше этого вообще не сможет никто, если не появится такой же. Но, я думаю, не появится, потому что люди вообще индивидуальны». Он ощущал особенность «Опавших листьев» в ряду других произведений (как литературных, так и философских) вообще. Книга состоит из разрозненных частей, которые представляют собой фрагменты дневника, различные заметки, философские размышления и эссеистические вставки. Для читателя начала XX века «Опавшие листья» выглядят экзотически - отделенные друг от друга разноразмерные фрагменты, пестрящие цитатами и курсивом. Розанов планировал публиковать каждый фрагмент «Опавших листьев» на отдельной странице, то есть так, чтобы предыдущая заметка не была визуально связана с предыдущей и последующей.

Однако ему пришлось отступить от задуманного с целью ускорения процесса печатания в типографии. Розанов в своих идеях намного опережал современное ему книгопечатание Сегодня, дорогой читатель, мы можем с легкостью представить такую книгу (например, сборник афористичных высказываний М.М. Жванецкого малого формата).
«Я пришел в мир, чтобы видеть…»
«Опавшие листья» напрочь лишены сюжетных линий и персонажей, то есть всего того, что ищет наш глаз с первых страниц художественного произведения большого формата, поэтому композиционные звенья, которые связывают фрагменты, - это, прежде всего, авторская свобода в выборе формы и смысловые тематические узлы (если сказать проще - личность автора).
На одной из первых страниц мы находим такие фрагменты:
«Как я отношусь к молодому поколению?
Никак. Не думаю.
Думаю только изредка. Но всегда мне его жаль. Сироты».
«Любовь есть боль. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого)».
Многие мысли даются с новой строки даже в отдельно взятом фрагменте. Писатель имитирует процесс восприятия человеком окружающего мира. Вслед за короткими афористичными заметками идут тематически связанные фрагменты, магистральной темой которых становится, например, иудейство или христианство. Создается впечатление фиксации непрерывного потока мыслей. Важным оказывается абсолютно всё: муки творчества, события современности, судьба русской культуры, воспоминания, которые хаотично нанизываются одно за другим.
Установка Розанова на воспроизведение разрозненного человеческого сознания на страницах «Опавших листьев» подчиняется его стремлению ухватить за хвост процесс понимания во всем его многообразии. Розанов, по собственному признанию, не созидатель, а созерцатель. В каждом моменте, запечатленном на страницах «Опавших листьев», отражается многогранная бесконечная реальность. Розанов видит две стороны медали и видит их одновременно. Так происходит со всеми явлениями, которые может зафиксировать его сознание, - правда и ложь, жизнь и смерть, литература и жизнь. Это и есть его задача - отразить тысячи точек зрения, потому что истина кроется в каждом отдельно взятом моменте. Для этого философ использует антиномии, которые могут явить читателю синтез, явив два противопоставленных лика одного явления. Жизнь, по мысли Розанова, возникает в результате нарушения равновесий: «Жизнь происходит от “неустойчивых равновесии”. Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни.
Создается впечатление фиксации непрерывного потока мыслей. Важным оказывается абсолютно всё: муки творчества, события современности, судьба русской культуры, воспоминания, которые хаотично нанизываются одно за другим.

Но неустойчивое равновесие - тревога, “неудобное мне”, опасность. Мир вечно тревожен и тем живет». Течение жизни - в вечной борьбе любви и смерти, тела и души.
Любовь и смерть
Темы, которых так или иначе касается Розанов на страницах книги, можно перечислять довольно долго. Однако именно любовь и смерть - есть подлинная тема «Опавших листьев». Начало и конец произведения - об умирании любимой, сердечного «друга». Ужасное течение болезни, ощущение приближения неминуемой смерти вводят на страницы книги философские заметки. О смерти Розанов пишет: «Смерти я боюсь, смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь». Неужели так может писать глубоко религиозный человек? Розанов смело в этом признается. Бессмертие души, которое будет даровано после смерти, его нисколько не утешает, потому что в данный момент философа так ужасает умирание тела, что он теряет веру в бессмертие души. Спасение он видит в любви, ведь через это чувство к конкретному человеку можно ощутить бессмертие.
Любовь у Розанова - соединение эроса (в привычном понимании, причем органически связанным с материнством и рождением детей) и жалости. Причем жалости философ уделяет большее внимание. Любовь, в первую очередь, - жалость и боль о человеке, любовь не обманывает: «Все же именно любовь меня не обманывала. Обманулся в вере, в цивилизации, в литературе.
В людях вообще. Но те два человека, которые меня любили, - я в них не обманулся никогда». В любви Розанов черпает вдохновение для жизни, а значит, пока происходит обмен «душа-тело» («Любовь есть взаимное пожирание, поглощение. Любовь - это всегда обмен, души-тела») между мужчиной и женщиной, любовники живут и противостоят смерти.
Дневник писателя или философские заметки?
Многообразие тем на страницах «Опавших листьев» и изобилие биографических отсылок (или их имитация?) отсылает нас к вопросу о жанре трилогии. Обсуждение этой проблемы тянется не одно десятилетие. Произведение часто определяют как писательский дневник, однако отнести «Опавшие листья» всецело к этому жанру было бы преступным упрощением. Сам же философ не дает нам никаких ориентиров. Более того, Розанов, указав на исключительность своего сочинения, вывел его за пределы жанров. С одной стороны, это может указывать на создание нового жанра, а с другой - свидетельствовать о невозможности подобрать определение. Кто-то называет «Опавшие листья» «газетой души Розанова», кто-то черновиком, кто-то отмечает импрессионистичность произведения. Но если существует черновик, то должен быть непременно и чистовик. Однако «листья» остаются в виде черновика, не оформляясь во что-то более определенное.
Дело в том, что Розанов демонстративно и сознательно отмежевывается от литературы (на страницах «Опавших листьев» философ высмеивает господ писателей). Вы, вероятно, спросите, о чем же мы здесь тогда рассуждаем? И правомерно ли говорить об «Опавших листьях» как о литературном произведении? Не все так просто. Декларативное отрицание в свете розановских противоречий - только одна сторона медали. Понимание литературы у Розанова тесно связано с противопоставлением правды жизни и правды искусства. Он не отрицает литературу, но указывает на то, что писатель, работая на публику (и на печать) неизбежно становится неискренним.
Розанов, указав на исключительность своего сочинения, вывел его за пределы жанров.
Поэтому он в течение многих лет ищет и находит собственный путь, сотканный из противоречий, который, тем не менее, позволил избежать неискренности (искусственного «олитературивания» произведения).
Подытожим
Писатель и философ предпочел остаться на границе литературы и философии, сохраняя за собой возможность лить на страницах словесный «чистый расправленный металл» без всякой примеси. Смелый эксперимент Розанова привел к созданию особого литературно-философского произведения в русской литературе и культуре начала XX века, ставшего одним из первых шагов в сторону дискретности, нелинейности и ассоциативности художественной литературы XX века в целом (более того, только в конце 30-х годов заговорили о новом формате книги («Зеленая коробочка» М. Дюшана), которая бы состояла из разрозненных клочков бумаги, схем и текстов, и представляла собой несшитый формат книги в противовес традиционной ее форме, к которой мы с вами привыкли). ■
Наталья Дровалёва
Литература
- Розанов В.В. Опавшие листья. М., 2015.
- Синенко В.С. Особенности мышления В.В. Розанова в художественно-философской трилогии «Уединенное», «Опавшие листья. Короб первый», «Опавшие листья. Короб второй и последний» // Вестник ВолГУ. Серия 8. 2003-2004. № 3. С. 21-29.
- Сарычев Я.В. «Совсем другая тема, другое направление, другая литература»: творческие искания В.В. Розанова 1910-х годов // Вестник РУДН. Литературоведение. Журналистика. 2003-2004. № 3-4. С. 49-58.
- Сарычев Я.В. Модернизм В.В. Розанова // Филологические науки. 2004. № 6.
- Синявский А.Д. «Опавшие листья» В. В. Розанова. М., 1999.
Розанов утверждает новый вид литературы - спонтанной, обрывочной, интимной, практически домашней, где истончается граница между автором и читателем. Но пытаясь преодолеть традиционную литературу, писатель ощущает, как литература преодолевает его самого.
комментарии: Полина Рыжова
О чём эта книга?
Cобрание разрозненных афоризмов, провокационных суждений и интимных признаний, в котором Розанов предстаёт то набожным семьянином, то бунтарём и богоборцем. За этими масками (или состояниями души) скрывается главная драматическая коллизия «Опавших листьев»: страстная любовь к жизни наталкивается на парализующий страх смерти, своей и близких.
Василий Розанов. Около 1910 года
РИА «Новости»
Когда она написана?
Тексты, составившие «Опавшие листья», Розанов написал в 1912 году. На их содержание и интонацию повлияли события личной жизни писателя: ухудшающееся после паралича здоровье его фактической жены Варвары Бутягиной, смерть её матери Александры Рудневой, с которой Розанов был очень близок, опасная болезнь приёмной дочери Саши. В этот же год Розанов ходит в окружной суд, пытаясь отстоять арестованный тираж «Уединённого» — своей первой книги в исповедально-дневниковом стиле, откровенность которой повлекла за собой обвинения в порнографии и разгромные отзывы критиков.
Василий Розанов с женой Варварой и дочерьми Татьяной и Верой. Санкт-Петербург, 1896 год. Фотография Ивана Романова-Рцы
Как она написана?
Розанов создал не только новый жанр, но и новый вид литературы — до него таких книг ещё не писали. Фрагменты «Опавших листьев» создавались непреднамеренно, между делом: на прогулке, в гостях, «за набивкой табаку» или поеданием арбуза. Розанов записывал свои рассуждения на обрывках бумаги, оборотах писем, визитных карточках и бросал их в одну кучу, не перечитывая. В книге нет общего замысла, темы или сюжета, она выглядит как дневник, созданный не для печати, а для себя и самых близких: здесь много сокращённых имён, названий, неточных цитат, намёков, непонятных широкой публике. Также здесь нет видимого порядка, системы (а в первом томе «Листьев» отсутствует и базовая хронология), что передаёт ощущение естественного течения жизни, где прошлое тасуется с настоящим, высокое — с низким, важное — с пустяковым. Зинаида Гиппиус, бывшая соратница писателя по Религиозно-философским собраниям Цикл встреч писателей и философов с представителями православного духовенства, организованный в 1901 году. На них обсуждались отношения Церкви с государством, интеллигенцией, взгляды православия на брак, свободу совести. Среди членов-учредителей были Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов, Василий Розанов, Александр Бенуа. Закрылись собрания в 1903 году постановлением обер-прокурора Синода Константина Победоносцева. , так охарактеризовала стиль розановских «миниатюр»: «Это — то, что мы, каждый из нас, если думает, — не записывает, а если и запишет по привычке к перу, то или разорвёт, или, сам страшась перечесть, — запрячет подальше, навсегда» 1 Русская мысль. 1912. № 5. C. 29. Отд. III. . При этом розановские записи исключительно музыкальны, художественно точны и обезоруживающе интимны. Андрей Синявский писал, что при чтении «Опавших листьев» можно почувствовать тепло пальцев автора: «это даже не книга, а часть человека» 2 Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982. C. 119. .
Точное изображение барышни. Рисунок Василия Розанова. Из книги Алексея Ремизова «Кукха»
«Опавшие листья» печатались в типографии Алексея Суворина (в суворинской газете «Новое время» Розанов к тому моменту проработал 14 лет). Первый том (получивший название «первого короба» после выхода второй части) вышел весной 1913 года тиражом в 2400 экземпляров, «короб второй и последний» — тиражом в 2450 экземпляров летом 1915 года. Решение публиковать «Листья» Розанову далось нелегко, он колебался, уже даже сдав рукопись в типографию. Своими сомнениями писатель делился в письме Павлу Флоренскому Павел Александрович Флоренский (1882-1937) — священник, богослов, философ. Принял сан в 1911 году, в последующие годы написал ряд религиозно-философских работ («Столп и утверждение истины», «Очерки философии культа», «Иконостас»). После революции занимался физикой и математикой, работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В 1933 году Флоренский был арестован и отправлен по этапу, последние годы вплоть до расстрела провёл на Соловках. Василий Розанов называл Флоренского «Паскалем нашего времени». : «Какой-то инстинкт говорит мне, дорогой П. А., что 2-го «Уедин.» печатать не надо и невозможно . <…> Объективно: можно в такой скандал залезть и таких оплеух наполучать «в наш прозаический век» со «своими интимностями», что «моё почтение». Субъективно — весьма легко впасть в литературный онанизм, коим я вряд ли уже не страдаю» 3 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. C. 293. . Изданные книги продавались плохо, почти вся выручка уходила на погашение долгов перед типографией. Примечательно, что издания, по меркам книжного рынка того времени, стоили дорого (2 рубля 50 копеек первый том и 2 рубля второй), на что Розанову неоднократно жаловались читатели.
Опавшие листья. Санкт-Петербург, Типография Товарищества А. С. Суворина - «Новое время», 1913 год
Опавшие листья. Короб второй и последний. Петроград, Типография Товарищества А. С. Суворина - «Новое время», 1915 год
Что на неё повлияло?
На систему образов Розанова и парадоксальный ход его мысли определённо оказали влияние произведения Достоевского, которые сам писатель очень ценил. Некоторые смелые мысли автора «Опавших листьев», в частности о женственной сущности еврейства, гомосексуальности, сопоставлении полов, пересекаются с идеями австрийского философа Отто Вейнингера Отто Вейнингер (1880-1903) — австрийский философ. Книгу «Пол и характер» Вейнингер написал в 1902 году. В ней он утверждал, что мужское и женское начала напрямую связаны с душой человека и характером целой нации. При этом мужской тип, по его мнению, был положительным, а женский — отрицательным. В возрасте 22 лет Вейнингер застрелился, что добавило его труду скандальной известности. из книги «Пол и характер» (1902). Сам Розанов с книгой был знаком, но влияние Вейнингера на себя отрицал. Алексей Ремизов в качестве возможных претекстов «Листьев» упоминал «Исторические афоризмы» историка и славянофила Михаила Погодина Михаил Петрович Погодин (1800-1875) — историк, прозаик, издатель журнала «Москвитянин». Погодин родился в крестьянской семье, а к середине XIX века стал настолько влиятельной фигурой, что давал советы императору Николаю I. Погодина считали центром литературной Москвы, он издал альманах «Урания», в котором публиковал стихи Пушкина, Баратынского, Вяземского, Тютчева, в его «Москвитянине» печатались Гоголь, Жуковский, Островский. Издатель разделял взгляды славянофилов, развивал идеи панславизма, был близок философскому кружку любомудров. Погодин профессионально изучал историю Древней Руси, отстаивал концепцию, согласно которой основы русской государственности заложили скандинавы. Собрал ценную коллекцию древнерусских документов, которую потом выкупило государство. : «…Самая мысль о форме «Опавшие листья» Погодинская, так сам Погодин в дневнике записал о происхождении первого тома своих исторических исследований — «груда листков и обрывышков» 4 Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 10: Петербургский буерак. М., 2003. С. 221. . По духу же и языку рукописная литература Розанова напомнила Ремизову : «Розановский стиль» — это самое «юродство»… идёт прямой дорогой от «вяканья» Аввакума из самой глуби русской земли» 5 Ремизов А. М. Собр. соч. Т. 10: Петербургский буерак. М., 2003. C. 313. .
Как её приняли?
Пресса отозвалась на выход что первого, что второго короба «Опавших листьев» серией уничижительных статей, стоит пробежаться хотя бы по заголовкам: «Обнажённость под звериною шкурой», «Философ, завязший ногой в своей душе», «Вместо демона — лакей», «Гнилая душа», «Позорная глубина». Общим местом в отзывах на розановские книги стало сравнение писателя с Передоновым из романа Фёдора Сологуба «Мелкий бес» и Смердяковым из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Небольшую положительную, хотя и осторожную, рецензию на первый короб опубликовал в «Новом времени» первый издатель Розанова Пётр Перцов : «Удивительная, странно-единственная книга, как странен единственный в своём роде её автор» 6 В. В. Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология: в 2 т. / Сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Фатеева. СПб.: Изд-во Российского христианского гуманитарного института, 1995. C. 181. . Благожелательные отзывы на розановские сочинения чаще встречаются в частной переписке. К примеру, в письме к Розанову лестно отозвался об «Опавших листьях» литературовед Михаил Гершензон : «Вы сами знаете, что книга Ваша — большая книга, что, когда будут перечислять те 8 или 10 русских книг, в которых выразилась самая сущность русского духа, не миновать будет назвать «Опавшие листья» вместе с «Уедин.» 7 Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909-1918 / Вступ. ст., публ. и коммент. В. Проскуриной // Новый мир. 1991. № 3. C. 238. . В частном письме, несмотря на натянутые отношения с автором, книгу хвалил Александр Блок: «Сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, а главное — о жизни» 8 Блок А. Собр. соч.: В 8 Т. М.: Л., 1963. T. 8. С. 417. . Сам Розанов внимательно следил за отзывами на свои сочинения и негодовал, почему никто из рецензентов не подметил главной, по его мнению, заключённой в них удачи: «Тон. «Уед.» и «Оп. л.» открыли настоящую литературу, единственную с правом на бытие литературу самоотрицающую и вместе с тем через это именно самоутверждающую» 9 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 9. Сахарна. М.: Республика, 1998. С. 257-258. .
Дом священника Андрея Беляева в Сергиевом Посаде, где жил Розанов с 1917 по 1919 год
После смерти Розанова в 1919 году Эрих Голлербах Эрих Фёдорович Голлербах (1895-1942) — искусствовед, литературный критик, библиограф. После революции работал в Русском музее, Госиздате, Ленинградском институте книговедения. Писал работы о Розанове, Алексее Толстом, Рерихе, Ахматовой. Исследовал историю гравюры и литографии в России, портретную живопись XVIII века. В 1933 году его арестовали по делу Иванова-Разумника, но вскоре оправдали. Умер Голлербах во время эвакуации из блокадного Ленинграда. , давний корреспондент Розанова и автор его первой биографии, организовал кружок по изучению творчества писателя, куда вошли Андрей Белый, литературные критики Виктор Ховин Виктор Романович Ховин (1891-1944) — литературный критик и издатель. Ховин был близок к эгофутуристам круга Игоря Северянина: под его началом издавался критический альманах «Очарованный странник», вышел поэтический сборник «Мимозы льна». После революции Ховин выпускает журнал «Книжный угол», где публиковались Юрий Тынянов, Виктор Шкловский, Василий Розанов. Последний становится одним из главных литературных интересов Ховина — он издаёт книги Розанова и основывает кружок по изучению его творчества. В 1924 году критик эмигрировал, во Франции основал собственное издательство. Во время войны Ховина депортировали в Освенцим, где он погиб. , Аким Волынский Аким Львович Волынский (1861-1926) — литературный критик, искусствовед. С 1889 года работал в журнале «Северный вестник», с 1891-го по 1898-й был главным редактором издания. В 1896 году опубликовал книгу «Русские критики». Писал мемуарные очерки о Гиппиус, Михайловском, Сологубе, Чуковском. После революции заведовал итальянским отделом в издательстве «Всемирная литература» и петроградским отделением Союза писателей. и Николай Лернер Николай Осипович Лернер (1877-1934) — литературовед. Печатался в «Русском архиве», «Русской старине», «Современнике», «Вестнике Европы», «Биржевых ведомостях». Автор работ об Александре Пушкине, за книгу «Труды и дни Пушкина» получил премию Пушкинского лицейского общества. В 1931 году его арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации и скупке музейных ценностей, но оправдали. . Кружок стал частью петроградской Вольной философской ассоциации, которую власти разогнали уже в 1924 году. Зато интерес к Розанову расцвёл в среде русской эмиграции: Ховин, считавший себя «убеждённым розановцем», уехал в Париж и переиздал там «Уединённое», воспоминаниями о писателе активно делились Зинаида Гиппиус, Николай Бердяев, Владислав Ходасевич, Алексей Ремизов написал книгу-портрет Розанова под названием «Кукха», а журнал «Вёрсты» Журнал русского зарубежья, издававшийся в 1926 по 1928 год в Париже. Его название отсылает к одноимённому сборнику Марины Цветаевой. В редакцию входили Дмитрий Святополк-Мирский, Пётр Сувчинский, Сергей Эфрон. В журнале публиковались «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» с примечаниями Алексея Ремизова, стихи Марины Цветаевой, рассказы Исаака Бабеля, статьи философа Льва Шестова. Всего вышло три номера журнала. опубликовал предсмертную розановскую книгу «Апокалипсис нашего времени», воспринятую эмиграцией как пророчество и интонационно повлиявшую на многие , в частности на «Распад атома» Георгия Иванова.
В позднем СССР чтение Розанова стало знаком принадлежности к неофициальной культуре: в 1973 году Венедикт Ерофеев опубликовал в православном самиздатовском журнале «Вече» Самиздатский журнал, издававшийся в СССР с 1971 по 1974 год. Его основателем и главным редактором был историк Владимир Осипов. Позиционировался как «русский неподцензурный машинописный православный патриотический журнал». Несколько номеров «Вече» было переиздано за границей издательством «Посев». эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика», в котором розановские сочинения спасают лирического героя Ерофеева от самоубийства. В 1982 году, уже в Париже, Андрей Синявский выпустил отдельную книгу об «Опавших листьях», где показал, что Розанов оставил миру не систему мыслей, а уникальный образ мышления, «самый процесс мысли». Пытаясь воссоздать этот процесс, писатель Дмитрий Галковский в начале 1990-х создал «Бесконечный тупик» — масштабный гипертекст, состоящий из разрозненных окололитературных эссе. Тысячестраничная книга Галковского выросла из небольшой статьи о Розанове под названием «Закруглённый мир».
Из сегодняшнего дня «рукописная литература» Розанова кажется своеобразным провозвестником стилистики социальных сетей: и в содержании, нарочито интимном, разношёрстном, и в форме — в розановских «листках» есть даже прототипы современных «статусов», в которых уточняется, где, когда и в каком состоянии духа сделана та или иная запись.
Эрих Голлербах. 1910-е годы. Первый биограф Розанова
Зинаида Гиппиус. 1897 год. Соратница Розанова по религиозно-философским собраниям
Что оригинального сделал в литературе Розанов? Чем эти «листья» отличаются от обычного дневника?
«Листья» или «листки» — спонтанные лирико-философские записи, передающие мимолётное состояние души. Сам Розанов настаивал на уникальности найденной им литературной формы: «Это нисколько не «Дневник», и не «Мемуары», и не «раскаянное признание»: именно и именно только «листы», «опавшие», «было» и «нет более», «жило» и стало «отжившим» 10 Цит. по кн: Голлербах Э. Встречи и впечатления. СПб.: Инапресс, 1998. С. 74-75. . Первой книгой в этом жанре стало «Уединённое», вышедшее в 1912 году, но нащупывать жанр Розанов начал гораздо раньше: в 1890-х он печатал в периодике миниатюры, обозначенные им как «эмбрионы»; в частности, самый известный афоризм Розанова про варенье и чай («Что делать? — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай») относится именно к «эмбрионам», напечатанным в 1899 году в сборнике статей «Религия и культура». Признавая сходство между «эмбрионами» и «листьями», Розанов всё же проводит принципиальную границу между двумя жанрами: первые обращены к читателю, а вторые существуют, этого читателя как бы не замечая.
Важно, что до открытия новой литературной формы, в которой он будет работать до конца жизни, Розанов никогда не писал собственно художественных книг — только публицистику, эссеистику и философские трактаты. Андрей Синявский сопроводил этот факт любопытным сравнением: «Ведь это всё равно, как если бы, допустим, Гегель, под старость, перешёл на стихи. Причём именно стихи оказались бы наилучшей, исчерпывающей формой его философской работы» 11 Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982. C. 109. .
Всё лучше свободы, «кой-что» лучше свободы, хуже «свободы» вообще ничего нет, и она нужна хулигану, лоботрясу и сутенёру
Василий Розанов
Большое значение в жанре «листков» имеет их необычное внешнее оформление. Миниатюра обычно заканчивается заключённой в скобки пометкой о том, когда, в каких условиях и на чём она писалась, при этом текст и примечание к нему нередко входят в комическое противоречие. К примеру, возвышенный и сентиментальный пассаж о любви («Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь») Розанов обрывает сообщением, что текст был записан «в ват…», то есть в ватерклозете. Смысл подобных контрастов автор объяснял в издательском послесловии первого короба «Опавших листьев»: с точностью указывая везде «место и обстановку пришедших мыслей», он хотел показать, что сознание человека нередко находится в разрыве с ощущениями.
Для «листков» характерно большое количество сокращений: где-то это сделано для удобства и скорости письма (например, «Уед.» — «Уединённое»), где-то в силу нежелания Розанова прямо оскорбить упоминаемых им людей («о поэте Б-те» — Константине Бальмонте), где-то условное сокращение обозначает сакральное для писателя понятие, которое ему не хочется лишний раз называть («Б.» — Бог; крестик вместо «смерти»). Вообще «листки» пестрят подчёркиваниями, курсивом, жирными начертаниями, кавычками, скобками, значками — всё это создаёт у читателя ощущение рукописного, «домашнего» текста. Эрих Голлербах видел в графическом оформлении розановских книг принципиальное значение: «В его писаниях много чисто «литературного» в буквальном смысле слова «littera»: их нужно воспринимать непременно зрительно, со всеми сносками, примечаниями, скобками, кавычками и пр. Одного слухового восприятия было бы недостаточно. Будучи прочитаны «ex-cathedra» С кафедры. — Лат. В католичестве означает официальную позицию папы по вопросам веры и нравственности. В переносном смысле — нравоучительный тон. , писания Розанова много проиграли бы в своей выразительности» 12 Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1976. C. 66-67. .
На создание эффекта рукописности работают и семейные фотографии, напечатанные в первом издании обоих коробов «Опавших листьев»: на них изображены жена писателя, дети, тёща (при этом нет ни одного портрета самого Розанова). Виктор Шкловский обращал внимание на интересную деталь: некоторые из снимков напечатаны в книге без подписи и отступа от края листа, от этого кажется, что перед нами настоящие фотографии, вложенные в книгу.
Василий Розанов с дочерью Верой. Санкт-Петербург, 1911 год
Василий и Варвара Розановы с детьми. 1903 год
Чем «Опавшие листья» отличаются от остальной «розановской листвы»?
Двухтомник «Опавших листьев» — наиболее полная книга Розанова, позволяющая узнать мнение автора по самому широкому кругу вопросов: от литературы и политики до цен в аптеках и привлекательности женской груди. В отличие от камерного дебютного «Уединённого», где само название предполагает концентрацию на личных ощущениях, «Листья» больше обращены к миру. Эта книга бескомпромисснее (Павел Флоренский жаловался, что в ней преобладает ругательный тон) и откровеннее. Розанов, нисколько не смущённый обвинением в порнографии после издания «Уединённого» («Запретили 13 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. C. 267. за «ё… м<ать>» и «ж<опу>», микву В иудейской традиции — водный резервуар для омовения. Миквой пользуются после «осквернения тела»: прикосновения к мертвецу или мёртвым животным, семяизвержения, менструации, заражения проказой или гонореей. и попа с фаллом in statu erectionis in temple» В состоянии эрекции в храме. — лат.; правильно — in templo» ), в последовавших за ним «Опавших листьях» только обостряет скандальные рассуждения на тему пола — выводит математические формулы «возраста совокупления», рассуждает о феномене многомужества у крестьянок и предлагает легализовать проституцию.
После 1912 года Розанов продолжил работать в жанре «листков», создав сборники «Сахарна», «Мимолётное», «Последние листья», «Апокалипсис нашего времени», но именно «Опавшие листья» стали его каноническим текстом. Философ и историк Георгий Федотов считал эту книгу самой зрелой из всех розановских сочинений: здесь «в предчувствии гибели, но всё ещё отрочески влюблённый в жизнь, в мельчайшие её явления, Розанов достигает предельной, метафизической зоркости».
Редакция газеты «Новое время». 1916 год. Василий Розанов шестой слева в последнем ряду
Розанов называл бездетную женщину грешницей. Он проповедовал идеалы домостроя?
Разве что домостроя особенного, розановского. На страницах «Опавших листьев» можно часто встретить рассуждения о предназначении женщин, которые выглядят дремучими даже для начала XX века: «Девушки… вы посланы в мир животом, а не головой», «Судьба девушки без детей — ужасна, дымна, прогоркла». Но эти суждения, как и все другие розановские провокации, не стоит воспринимать в отрыве от контекста его философии. Говоря о важности материнства, Розанов не пытался указать женщинам на их место, он был заворожён самой магией деторождения и женщинами как существами, этой магией владеющими. При всей наружной консервативности в некоторых аспектах «женского вопроса» Розанов выступал даже с революционными идеями: например, в тех же «Опавших листьях» предлагал установить возраст, по истечении которого незамужняя девушка имеет право заниматься сексом и заводить ребёнка, не боясь общественного порицания («Как вы убедите девушку, что ей «не дозволено» и она не может иметь детей, не «дождавшись» мужа, когда она «его ждала» до 25, до 30, до 35 лет: и, наконец, до каких же пор «дожидаться» — до прекращения месячных, когда рождение уже невозможно???»).
В розановской философской системе иметь детей положено всем, разве что кроме «людей лунного света», особенной категории людей, не чувствующих влечения к противоположному полу. Розанов одним из первых в России заговорил о метафизике гомосексуальности. Полагая, что мужчина и женщина находят своё продолжение друг в друге, он видел в гомосексуалах личностей, изначально обладающих внутренней целостностью, и именно этим объяснял их ярко выраженную талантливость: «Оттого происходит даровитость их, что у них семя полностью всасывается в кровь и оталантливает её, сообщает ей пылание, и через неё — мозгу. Такие люди суть «окрылённые» 14 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. C. 223. .
Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение
Василий Розанов
Розанов, рассуждая о сексе в недопустимых для его времени подробностях, ставил себе целью не шокировать обывателя (ну разве только чуть-чуть, из литературного хулиганства), а показать, что в половой жизни нет ничего априорно дурного и предосудительного. Зинаида Гиппиус писала, что Розанов так боролся с «общим убеждением, в кровь и плоть вошедшим, что «пол — грязь» 15 Гиппиус З. Н. Живые лица: Воспоминания / Сост., предисл. и коммент. Е. Я. Курганова. Тбилиси: Мерани, 1991. C.103. . В его сочинениях утверждалось совсем другое сопоставление — «пол — Бог», Розанов раскрывал божественную природу сексуальности, которую он соотносил с философией Ветхого Завета («плодитесь и размножайтесь»), иудаизма и других древних религий. Несмотря на стройность и разработанную систему аргументов, современники воспринимали розановскую «теорию пола» скептически, считая, что автор её — просто-напросто эротоман.
Однако в философии Розанова сам секс не так существенен, он важен как основание семьи. Именно в семье автор «Опавших листьев» видел идеал существования и главную ценность человеческой жизни, которая способна исправить греховную природу человека. Увы, семья самого писателя ещё при жизни практически распалась, и никто из его детей не имел потомства: первая дочь Надя умерла в младенчестве, сын Василий умер от гриппа, дочь Вера после смерти отца повесилась, Варя скончалась в лагерной больнице, старшая Надя умерла в 55 лет. До глубокой старости дожила только любимая дочь Розанова Татьяна, оставившая об отце много ценных воспоминаний: «Ему больше всего хотелось, чтобы у нас были патриархальные семьи и много детей. Бедный папочка, самое главное его желание не исполнилось…» 16 Розанова Т. В. «Будьте светлы духом» (Воспоминания о В. В. Розанове) / Предисл. и сост. А. Н. Богословского. М.: Blue Apple, 1999. C.156.
Татьяна Розанова, дочь писателя. Около 1915 года
О каком «друге» в «Опавших листьях» постоянно идёт речь?
Розанов имеет в виду свою фактическую жену Варвару Бутягину, урождённую Рудневу. Он познакомился с ней в конце 1880-х годов в Ельце, где в то время служил учителем географии и истории в мужской гимназии. Бутягина была 21-летней вдовой священника с маленькой дочерью на руках. Розанов не раз отмечал, что чувства к молодой вдове возникли во многом из-за её рассказов о любви к первому мужу: «Я влюбился в эту любовь её и в память к человеку, очень несчастному (болезнь, слепота), и с которым (бедность и болезнь) очень страдала» 17 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 30. Листва. Уединённое. Опавшие листья. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. C. 365. . В 1891 году пара обвенчалась, но тайно — без свидетелей и записей в церковной книге, под условием немедленно покинуть Елец. Секретность объяснялась тем, что Розанов к тому времени уже был женат.
Будучи ещё студентом, он женился на сорокалетней писательнице Аполлинарии Сусловой, бывшей любовнице Достоевского. Брак с ней оказался сущим мучением для Розанова, литературовед и богослов Сергей Дурылин Сергей Николаевич Дурылин (1886-1954) — литературовед, богослов, театральный критик. С 1906 по 1917 год совершил ряд этнографических поездок по Русскому Северу, после которых сформулировал тезис о граде Китеже как основании русской духовной культуры. Был секретарём Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьёва. После революции переехал в Сергиев Посад и был рукоположён в священники. В 1922-м Дурылина арестовали и отправили в ссылку в Челябинск. После возвращения работал театральным критиком, преподавал в ГИТИСе. так вспоминал об их семейной жизни: «Несмотря на «романтику», на «Достоевского», он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии». Суслова сама бросила мужа, но не соглашалась на развод на протяжении двадцати лет, из-за чего дети от брака с Бутягиной долгое время не могли получить фамилию отца, а сам писатель, если бы открылась правда о тайном венчании, мог бы отправиться в ссылку из-за двоежёнства. Вероятно опасаясь именно такого исхода, Розанов в своих «листках» называет Бутягину не женой, а «другом» или «мамочкой».
Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно паутина. Истинное железо — слёзы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное. Им и живите
Василий Розанов
Писатель придавал отношениям с ней огромное значение, считал, что обязан ей духовным перерождением и появлением самых важных тем в своём творчестве. Значительная часть «Опавших листьев» занята признаниями «другу» в вечной любви и опасениями за его здоровье. В 1910 году из-за запущенного сифилиса у Бутягиной произошёл паралич, левая часть тела потеряла чувствительность и способность двигаться (от прогрессивного паралича, вызванного сифилисом, умер и первый муж Бутягиной 18 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. С. 275. ). В том, что долгое время болезнь не могли правильно диагностировать и шанс на выздоровление был упущен, Розанов винил лично себя: «И вот эта мука: друг гибнет на моих глазах и, в сущности, по моей вине. Мне дано видеть каждый час её страдания, и этих часов уже три года. И когда «совесть» отойдёт от меня: оставшись без «совести», я увижу всю пучину черноты, в которой жил и в которую собственно шёл».
Жгучее ощущение вины, вероятно, объясняется не только выбором неправильных врачей для жены: писатель изменял Бутягиной. В письмах Флоренскому Розанов часто рассуждал о своих телесных (бисексуальных) «опытах», при этом он то отстаивал их необходимость, потому что они помогали ему в обосновании «теории пола», то сильно их стыдился. В письме от 17 января 1916 года писатель так объяснял своё отношение к изменам: «Я — расплывчатый, «вата», «всё лезет», «говно», но параллельно же растягиваюсь на весь мир и «везде меня хватает», и на Варю (мою и до известной степени «единственную», solo), и на Валю, и проч. <…> В «вату» меня Бог и устроил для понимания этой единственной в мире психологии, где «верность» и «неверность» так переплетаются, что не противоречат друг другу» 19 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. C. 368, 370. .
В «Опавших листьях» образ умирающего «друга» — главная антитеза лирического героя Розанова, воплощённый немой укор ему. О самом близком и любимом человеке здесь не говорится практически ничего характерного и определённого (если не принимать во внимание медицинские сводки о здоровье), для читателя Бутягина предстаёт не живой женщиной, а именно «совестью», чьё скорое исчезновение из жизни автора и образует главную cюжетную нить книги. В реальности Варвара Бутягина умерла только в 1923 году, пережив Василия Розанова на четыре года.
Варвара Бутягина, вторая жена Розанова. Конец 1880-х годов
Аполлинария Суслова, первая жена Розанова. 1867 год
Было и такое. При этом он умудрялся быть анти- и филосемитом одновременно.
Розанов увлёкся еврейским вопросом ещё во второй половине 1890-х, особенностям иудейского быта, устройства семьи, культовых обрядов он посвятил целый ряд статей и книг. В сборнике «В тёмных религиозных лучах» (1909), пожалуй своей самой антихристианской книге, писатель вывел, что «еврей есть душа человечества, его энтелехия Согласно философии Аристотеля, внутренняя сила, заключающая в себе и цель, и конечный результат. ». Именно в иудаизме Розанов видел отражение своей «теории пола» и признавался, что любит евреев «физиологически» и «художественно» 20 Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909-1918 / Вступ. ст., публ. и коммент. В. Проскуриной // Новый мир. 1991. № 3. C. 225. . Но со временем тон рассуждений начал меняться: писателя всё больше беспокоило возрастающее участие евреев в общественной жизни, поворотным событием для него стало убийство в 1911 году Петра Столыпина евреем-анархистом Богровым. В письме Михаилу Гершензону Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) — литературовед, публицист. Писал рецензии для «Русских ведомостей», «Русской молвы», «Биржевых ведомостей», был редактором литературного отдела «Вестника Европы», «Критического обозрения», «Научного слова». В 1909 году инициировал издание сборника «Вехи» и выступил автором вступительного слова к нему. Наиболее известны литературоведческие работы Гершензона о Пушкине, Тургеневе и Чаадаеве. Розанов писал: «Это — простите — нахальство натиска, это «по щеке» всем русским — убило во мне всё к ним, всякое сочувствие, жалость» 21 Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909-1918 / Вступ. ст., публ. и коммент. В. Проскуриной // Новый мир. 1991. № 3. C. 232. . Антисемитский пафос хорошо чувствуется в «Опавших листьях», самой христианской книге Розанова, — здесь и о России, «обглоданной евреями», и о «липкости еврейских пальцев», о «захватанной» евреями литературе. Признавая еврейские погромы «грехом», Розанов всё же пытался найти им оправдание: «Погром — это конвульсия в ответ на муку. Паук сосёт муху. Муха жужжит. Крылья конвульсивно трепещут, — и задевают паука, рвут бессильно и в одном месте паутину. Но уже ножка мухи захвачена в петельку. И паук это знает. Крики на погромы — риторическая фигура страдания того, кто господин положения». При этом юдофобские выпады в «Опавших листьях» настолько страстные, что чаще всего напоминают изощрённые признания в любви: «Вопрос «об еврее» бесконечен: о нём можно говорить и написать больше, чем об Удельно-вечевом периоде русской истории. Какие «да!» и «нет!»
«Корректные люди» суть просто неодушевлённые существа, — «линейка» и «транспарант», «редактор» и «контора»: и из этого не выведешь ни Царства Небесного, ни даже Всемирного банка или сколько-нибудь сносного — мужа
Василий Розанов
В сентябре 1913 года в Киеве начался громкий судебный процесс над евреем Менделем Бейлисом, обвинённым в ритуальном убийстве двенадцатилетнего русского мальчика. Розанов выступал в печати сторонником «кровавого навета» Обвинение евреев в убийстве христиан для использования их крови в ритуальных целях. , из-за чего от него отвернулось большинство друзей и недавних единомышленников, а Религиозно-философское общество в Петербурге исключило его из числа своих участников. В это время Розанов написал свою самую скандальную антисемитскую книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», в которой рассуждал о значении крови в иудейских ритуалах. Критик Пётр Губер отмечал , что политические цели в «деле Бейлиса» Розанов вряд ли преследовал: «Он полагал, что ритуальные убийства действительно существуют в тайниках какой-то мистической еврейской секты. Или, точнее говоря, ему хотелось, чтобы они существовали. Но хотелось не для того, чтобы оправдать угнетение евреев, а потому, что самый факт ритуальных убийств нравился ему. Он был убеждён, что это хорошо, что, пожалуй, это даже угодно Богу». По мнению литературоведа Михаила Эдельштейна, осуждения ритуальных убийств у Розанова действительно нет: не случайно все три понятия в названии скандальной работы («обоняние», «осязание», «кровь») обладают в его философской системе позитивным значением. Писателя скорее раздражало, что евреи, как ему открылось после «дела Бейлиса», сумели сохранить «тайну крови», «Б-гоизбранности», над разгадкой которой он так долго бился.
Характерно, что после революции Розанов отказался от всех антисемитских статей и высказываний, написал евреям открытое письмо с извинениями и объявил, что «перешёл в еврейство». Такую метаморфозу часто связывают с необходимостью писателя адаптироваться к новому политическому режиму и страхом за свою жизнь, но страх у Розанова наполнен метафизикой и провиденциальным смыслом: «…Я убедился, что жив бог Израилев, — жив и наказует, и убоялся» 22 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. Вып. № 1-10. Текст «Апокалипсиса...», публикуемый впервые. М.: Республика, 2000. C. 185. .
Мендель Бейлис под стражей. 1912 год. Розанов поддержал обвинения, выдвинутые против Бейлиса
Пётр Столыпин в гробу. 1911 год. Убийство Столыпина стало для Розанова поворотным моментом в его отношении к «еврейскому вопросу»
О чём Розанов спорил с Церковью?
Писателя не устраивало отношение Церкви к браку и семейной жизни. Полемика с ней произрастала из личной обиды: именно из-за церковного догматизма Розанов не мог развестись с Аполлинарией Сусловой и официально обвенчаться со своей второй женой Варварой Бутягиной. До революции развод получить было очень сложно, он допускался лишь на нескольких основаниях: доказанный факт измены (с показаниями двух или трёх свидетелей!), добрачная болезнь, мешающая выполнению супружеских обязанностей, безвестное отсутствие супруга на протяжении пяти лет или лишение супруга прав состояния за тяжкое преступление. Корень такой строгости можно найти в словах Иисуса Христа о разводах:
Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует.
Розанов считал этот отрывок из Евангелия (Мф. 19:8-9) доказательством злых намерений Мессии: «Развод дан и существует, очевидно, для не ожесточения нравов. Попробуйте с неприятным человеком жить в одной комнате: и его… в силу невольного сожительства, — Вы возненавидите ... <…> …Запрещением развода Иисус ввёл ожесточение мужей на жён, жён на мужей, и как Бог или (по-моему) Тёмный ангел, знающий будущее, — не мог этого не знать, знал!» 23 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. C. 201-202. .
Вопрос о расторжении брака, впрочем, был лишь спусковым крючком для розановского христоборчества: писателю не нравился сам дух Нового Завета, утвердивший вместо семьи воздержание, а вместо жизни — смерть. В Ветхом же Завете Розанов, напротив, видел связь Бога с полом, а значит, и с сакральной сердцевиной жизни человека. По мнению Розанова, самая насущная задача Церкви и всего христианства состояла в том, чтобы вновь «оцеломудрить» пол, вернуть святость семье и браку. Вполне практическое решение этой задачи предлагается в «Опавших листьях»: супруги после венчания, по мысли Розанова, должны жить в храме или при храме до появления первых признаков беременности, то есть зачинать детей непосредственно в лоне Церкви. Андрей Синявский сравнивал эту дерзкую розановскую идею с не менее эксцентричным учением философа Николая Фёдорова По Фёдорову (1828-1903), главная задача человечества — подчинить себе природу ради победы над смертью, ради воскрешения всех усопших, причём не в метафорическом смысле, а в самом прямом. Чтобы добиться этого, людям необходимо преодолеть рознь и объединить веру с наукой. , проповедовавшего идею воскрешения из мёртвых: «И фёдоровская утопия, и утопия Розанова — это как бы возврат к какому-то родовому строю, к утраченному раю на земле. Но у Фёдорова — через отрицание пола и деторождения, которое будет замещено воскрешением умерших. А у Розанова — через восстановление пола, брака и семьи в их первоначальной религиозной значимости» 24 .
Против мечты нет ни щита, ни копья. А факты — в вечном полинянии
Василий Розанов
Важно, что именно в «Опавших листьях», как ни в каких других своих книгах, писатель отчаянно пытался примириться с Церковью и Христом. Причина опять же кроется в обстоятельствах его личной жизни: тяжёлая болезнь жены и страх её скорой кончины заставили Розанова искать утешения в христианстве. Чем чётче на горизонте вырисовывалась смерть, тем легче ему было принять Христа — ведь именно он, а не ветхозаветный Бог смог дать человеку надежду на спасение. В дальнейшем писатель ещё не раз восставал против Церкви, но перед собственной смертью, по свидетельствам очевидцев, ощутил себя человеком истово верующим и превратил последние дни жизни в «сплошную осанну Христу» 25 Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1976. C. 74. . Примечательно, что похоронили Розанова при содействии священника Павла Флоренского на монастырском кладбище, в Гефсиманском скиту Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Священник и философ Павел Флоренский, близкий друг Василия Розанова
Почему Розанов поддерживал то революционеров, то черносотенцев?
Писатель определённо тяготел к правой печати, большую часть своей карьеры он проработал в газете Алексея Суворина Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912) — писатель, драматург, издатель. Приобрёл известность благодаря воскресным фельетонам, публиковавшимся в «Санкт-Петербургских ведомостях». В 1876 году купил газету «Новое время», вскоре основал свой книжный магазин и типографию, в которой издавал справочники «Русский календарь», «Вся Россия», серию книг «Дешёвая библиотека». Среди известных драм Суворина — «Татьяна Репина», «Медея», «Дмитрий Самозванец и царевна Ксения». «Новое время» Газета, издававшаяся в Петербурге с 1868 по 1917 год. В 1876 году её издателем стал Алексей Суворин. Первое время издание было умеренно либеральным, но с годами переходило на всё более консервативные позиции. Из-за статей Виктора Буренина имело скандальную репутацию в кругах интеллигенции. Единственное частное издание, где печатались циркуляры Министерства финансов, отчёты и котировки ценных бумаг Государ-ственного банка. В 1880-х годах — одна из наиболее популярных ежедневных газет в России. : издание имело репутацию реакционного, а слово «нововременец» в журналистских кругах означало человека беспринципного и даже аморального (одна из многочисленных ругательных рецензий на «Уединённое» и «Опавшие листья» так и называлась — «Обнажённый нововременнец»). При этом Розанов подвизался писать и для либерального «Русского слова» издателя Ивана Сытина Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934) — издатель. В 1876 году основал литографию для издания лубочных картин, в 1883 году — книжную лавку и книгоиздательское товарищество «И. д. Сытин и К°». Совместно с Львом Толстым организовал издательство «Посредник», в котором в целях народного просвещения печатались недорогие книги, в том числе сочинения Лескова, Гаршина, Короленко. С 1897 по 1917 год Сытин издавал газету «Русское слово». Также издавал популярные лубочные картины, календари, буквари, энциклопедии. . В общей сложности он сотрудничал с 68 газетами и журналами, не обращая особого внимания на то, кто их издаёт и какова их политическая направленность. Неудивительно, что современники обвиняли его в идейной неразборчивости и двурушничестве. «Писатель, совершенно лишённый признаков нравственной личности, морального единства и его выражения, стыда», — так отрекомендовал Розанова Пётр Струве 26 Русская мысль. 1911. № 11. Отд. II. С. 138-146. .
Розанов не стеснялся признавать, что публикуется везде, в первую очередь чтобы содержать большую семью (жена, пятеро детей, падчерица), но на свою «беспринципность» смотрел по-философски: «Я писал однодневно «чёрные» статьи с «эс-эрными». И в обеих был убеждён. Разве нет 1/100 истины в революции? и 1/100 истины в черносотенстве?» В «Опавших листьях» Розанов объяснял, что с политиками спорить бесполезно, напротив, нужно со всеми ними согласиться и тем самым уничтожить саму политику. Видя, как накануне революции страну раздирают противоречия, он предпочитал воевать не с какими-то конкретными идеологиями, а с идеями вообще. Парадоксально, что именно эта идеологическая неразбериха, призванная, по мысли Розанова, покончить с политической враждой, сама по себе обладала эффектом подложенной под страну бомбы. Философ Георгий Федотов Георгий Петрович Федотов (1886-1951) — историк, философ, публицист. В 1905 году был арестован за участие в социал-демократическом кружке и выслан в Германию. После возвращения в Россию преподавал историю Средних веков в Петербургском университете. В 1925-м получил разрешение посетить Германию для исторических исследований и в Россию не вернулся. С 1926 по 1940 год был профессором Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже. Редактировал эмигрантский общественно-философский журнал «Новый град». В годы немецкой оккупации переехал в США. писал , что «думая о Розанове, невольно вспоминаешь распад атома, освобождающий огромное количество энергии. От «Понимания» к «Опавшим листьям»: не случайно, что вершины своего гения Розанов достигает в максимальной разорванности, распаде «умного» сознания. Розанов од-новременно и рождается сам в смерти старой России, и могущественно ускоряет её гибель. Иной раз кажется, что одного «Уединённого» было бы достаточно, чтобы взорвать Россию».
Петра Перцова Пётр Петрович Перцов (1868-1947) — поэт, литературный критик, издатель. С 1892 года начал сотрудничать с журналом «Русское богатство», печатал стихи в газете «Неделя» и журнале «Северный вестник». Издавал сборники поэтов-символистов, критических работ Мережковского, статей Розанова («Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Литературные очерки»). Был редактором литературно-философского журнала «Новый путь» и литературного приложения газеты «Слово». После революции работал в музейном отделе Наркомпроса, писал мемуары. : «Бедняга Василий Васильевич, кажется, согласен был бы печатать свои «Мысли о браке» хотя в «Тургайских Областных Ведомостях» или хоть в преисподней, даже в какой-нибудь тамошней «Адской почте», только бы печатать» 27 Перцов П. Эквилибристика В. В. Розанова // Русский труд. 1899. № 45. .Открытие жанра «опавших листьев» для Розанова оказалось способом воссоздать тон догутенберговских рукописей, вернуть книге потерянную интимность, задушевность и выйти за пределы ненавистной ему печати. Своё писательство он всячески пытался очистить от интеллектуального бахвальства, сравнивая его то с физиологией («инстинкт выговаривания»), то с предметами обихода («халат, штаны»). В «Опавших листьях» Розанову кажется, что он преодолевает литературу, что сама сущность литературы в его сочинениях «разлагается». Но пытаясь разрушить рамки литературы, он в то же время понимал, что литература разрушает рамки его самого: «…Я и думаю, что вообще не рождалось ещё человека, у которого сполна всё его лицо перешло бы в «литературу», сполна всё бытие улеглось бы в «литературу». Читатель видит, до чего это не есть «качество», а просто «есть» 28 Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 9. Сахарна. М.: Республика, 1998. C. 225. .
Розанов чувствовал отвращение не просто к литературе, а к литературности собственной жизни. Андрей Синявский по этому поводу справедливо замечал, что Розановым «владело чувство «конца» литературы, к которому он подошёл. Иногда он радовался этому обстоятельству, а иногда ужасался. Ужасался тому, что этот «конец» литературы был не разрывом с ней, а её проникновением в такие сферы человеческого бытия и сознания, которые доселе не подлежали литературному осмыслению» 29 Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982. C.126. . Одним из доказательств такого пугающего проникновения служат надиктованные дочерям предсмертные тексты писателя, в которых он подробно рассказывал о состояниях умирания. Розанов, при всём отталкивании от литературы, был писателем до самого конца, то есть делал предметом литературы не только всю свою жизнь, но даже собственную смерть.
Василий Розанов с дочерью Татьяной
Существует ли хоть одна тема, в которой Розанов не противоречил сам себе?
Вряд ли. Розанов мыслил противоречиями и парадоксами. Он постоянно менял точку зрения на предмет, сбивая с толку окружающих, и нисколько этого не стеснялся. Андрей Синявский сравнивал розановское мышление с деревом, ветви которого одновременно растут в разные стороны 30 Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982. .
«Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали» — этот один из самых известных розановских афоризмов из «Уединённого» заставил современников сравнивать Розанова с Фридрихом Ницше, очень популярным в России в начале XX века. Как и Розанов, Ницше критиковал христианство, противопоставляя ему дионисийство с его культом телесности и чувственности, громил устоявшуюся мораль, провоцировал, также писал философские трактаты в жанре афоризмов. Однако идея сверхличности и её безграничной свободы была чужда и даже враждебна Розанову, — напротив, символом всей его философской мысли может служить обыкновенный, лишённый какого-либо величия человек. Как писал он в «Опавших листьях»: «Всем великим людям я бы откусил голову. И для меня выше Наполеона наша горничная Надя, такая кроткая, милая и изредка улыбающаяся. Наполеон совершенно никому не интересен. Наполеон интересен только дурным людям (базар, толпа)».
Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая», — «на задворках»
Василий Розанов
Зачастую страдая от противоречивости своей натуры («душа моя какая-то путаница»), писатель именно в ней видел первопричину своих интеллектуальных и духовных открытий. Из розановской статьи «Загадки русской провокации»: «Разница между «честной прямой линией» и лукавыми «кривыми», как эллипсис и парабола, состоит в том, что по первой летают вороны, а по вторым движутся все небесные светила» 31 Розанов В. В. Загадки русской провокации: статьи и очерки 1910 г. М.: Республика, 2005. .
Дмитрий Галковский писал, что эти «кривые» и создают уникальное непознаваемое пространство розановской прозы, из-за чего каждый из толкователей его творчества вынужден впадать в одну из двух крайностей: либо отстраняться от писателя, сосредотачиваясь на формальностях, либо растворяться в нём без следа 32 Галковский Д. Е. Бесконечный тупик: в 2 кн. / Издание 3-е, исправленное и дополненное. М.: Издательство Дмитрия Галковского, 2008. C.1. . Розановская литература, на первый взгляд, исключительно эгоцентрична и создавалась вроде бы не для читателя, но вместе с тем именно читатель является её главным действующим лицом. Галковский сравнивал литературу Розанова с гусеницей, «прогрызающей словесную перегородку между читателем и писателем», но если воспользоваться системой образов самого автора «Опавших листьев», она скорее оплодотворяет «розановщиной» окружающий мир.
список литературы
- Белый А. Начало века. М.: Художественная литература, 1989.
- В. В. Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология: в 2 т. / Сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Фатеева. СПб.: Изд-во Российского христианского гуманитарного института, 1995.
- Галковский Д. Е. Бесконечный тупик: в 2 кн. / Издание 3-е, исправленное и дополненное. М.: Издательство Дмитрия Галковского, 2008.
- Гиппиус З. Н. Живые лица: Воспоминания / Сост., предисл. и коммент. Е. Я. Курганова. Тбилиси: Мерани, 1991.
- Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1976.
- Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909–1918 / Вступ. ст., публ. и коммент. В. Проскуриной // Новый мир. 1991. № 3. С. 215–242.
- Ремизов А. М. Кукха: Розановы письма // Изд. подгот. Е. Р. Обатнина. СПб.: Наука, 2011.
- Розанов В. В. Загадки русской провокации: статьи и очерки 1910 г. М.: Республика, 2005.
- Розанов В. В. Опавшие листья: [в 2 кн.]. Кн. 2: Комментарии / Вступ. статья и коммент. В. Ю. Шведова. СПб.: Издательство «Пушкинский дом», 2015.
- Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 9. Сахарна. М.: Республика, 1998.
- Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 13. Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым. М.: Республика, 2001.
- Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 29. Литературные изгнанники. Книга вторая: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010.
- Розанов В. В. Собрание сочинений. Том 30. Листва. Уединённое. Опавшие листья. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010.
- Розанова Т. В. «Будьте светлы духом» (Воспоминания о В. В. Розанове) / Предисл. и сост. А. Н. Богословского. М.: Blue Apple, 1999.
- Николюкин А. Розанов. М.: Молодая гвардия, 2001.
- Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982.
- Шкловский В. Литература вне сюжета // Теория прозы // http://www.opojaz.ru/shklovsky/vne_sujeta.html
Весь список литературы